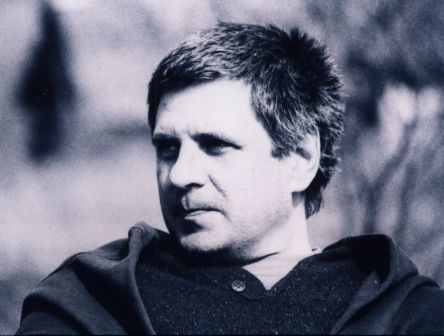- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- Ура, мы не Европа (продолжение)
Ура, мы не Европа (продолжение)
Вадим Приголовкин 24.06.2015
Вадим Приголовкин 24.06.2015
Ура, мы не Европа (продолжение)
Как ценили ветеранов

В 1898 году лейб-гвардии драгунский полк всем составом чествовал своего сослуживца, 70-летнего Василия Константинова по случаю 50-летия его службы в рядах Российской императорской армии. Полк прошёл перед ветераном торжественным маршем (т.н. церковный парад – прохождение в пешем строю без оружия), потом был молебен и торжественный обед.
Был Василий не граф и не князь, и вообще не из дворян. Крестьянин Курской губернии попал на службу в 20 лет, в 1848 году. Через 4 года император Николай I лично выбрал его, как отличного солдата, для перевода в лейб-гвардию. С тех пор вся жизнь Константинова оказалась связана с лейб-драгунами.
В послужном списке четыре кампании: поход в Венгрию в 1848 году, Крымская война 1855 года, усмирение Польского мятежа 1863 года и русско-турецкая война 1877-1878 годов. В сумме за все: три знака отличия Военного ордена (Георгиевский крест), знак отличия ордена св. Анны, три серебряные медали «За усердие», серебряная медаль немецкого ордена «Красного орла», румынский Железный крест и другие награды и знаки отличия.
Чинопроизводство: с 1857 года унтер-офицер, с 1867 года младший вахмистр, а с 1863 - старший. В 1867 сдал экзамен на офицерский чин, что давало ему право на перевод в чине корнета в армейский кавполк. Однако от производства в офицеры Константинов отказался и предпочел остаться в родном полку старшим вахмистром.
Вообще же унтер-офицеры царской армии, по меньшей мере, с начала XIX века после 15 лет службы имели право на получение офицерского чина. Надо было сдать экзамен и иметь безупречный послужной список. Однако многие успешно сдавшие унтера от производства в офицеры отказывались, предпочитая оставаться на прежних должностях, что давало им право на дополнительные льготы. Константинов получил серебряный шеврон на рукав, офицерский темляк на саблю и жалование в 100 рублей в год. Безусловно, главным, что влияло на решение отказаться от производства, было желание остаться в полку, который для них был родным домом. Взамен полк получал когорту людей, на которых во многом и держались полковые традиции.
На момент чествования 70-летний ветеран уже находился на должности ктитора полковой церкви, но, как видим, по-прежнему пользовался всеобщим уважением. И командование полка это уважение всячески подчеркивало.

В Лейб-гвардии Кирасирский ее Величества полк в году 1913-м приехал старик лет за 70, в совершенно изношенной, старинного покроя форме кирасира. Это оказался солдат, служивший в полку ещё в пятидесятых годах прошлого века. С тронувшей всех простотой и наивностью дедушка поведал, что в его родном селе под Воронежем молодежь смеётся над ним за то, что ходит в таком обветшалом мундире, в котором стыдно и в храм войти на Пасху. Вот он и предпринял целое путешествие, с целью попасть на ежегодный полковой праздник и похлопотать, чтобы ему выдали новый мундир.
Деду, конечно, справили полный комплект, офицеры завалили его подарками, а на параде он замыкал церемониальный марш, гордо шагая вслед за школой полковых кантонистов. Потом он ещё неделю гостил в полку, рассказывая солдатам и офицерам про старые порядки.
После такого не удивляют уже приходившие в полки письма «помогите, дом сгорел, жена болеет…» и резолюции офицерского полкового собрания, вроде «Отписать полицмейстеру, если подтвердит, что человек достойный, выслать N рублей…»
Вообще же данный сюжет навеял получивший известность ролик, после парада 9 мая, когда идущие в строю десантники отдавали ответную честь мальчонке годиков трёх.
А вот что сделали офицеры одного из гвардейских полков незадолго до Первой мировой.
Полк проходил по городским улицам, и полковой адъютант обратил внимание на старика в старинной форме, отдающего честь проходящим кавалеристам. Офицер не поленился, поинтересовался, отчего он отдаёт честь. И услышав в ответ: «А как же, это же мой полк, я в нём с турками воевал…», нагнал командира полка. Тот реагировал мгновенно. Адъютант был послан назад к ветерану, с приказанием стоять на месте, колонне было скомандовано налево кругом, а далее весь полк во главе с командиром под знаменем и с барабанным боем торжественным маршем прошёл мимо ветерана, отдавая ему честь.
Что русскому здорово…
Сейчас в соцсетях модно в связи с последними событиями вспоминать слова Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Некоторых эти слова обижают, хотя напрасно. Вот как это работало на практике.
Дело было в ноябре 1914-го у польского города Петроково. Во время жестоких боев на левом берегу Вислы, которые позже историки назовут Лодзинской операцией, между русскими 2-й и 5-й армиями образовался разрыв. В этот разрыв двинулся немецко-австрийский корпус генерала Войрша, выходящий на тылы обеих русских армий. Назревала катастрофа почище Самсоновской.
Русское командование бросило к месту прорыва последние резервы, две гвардейские кавалерийские дивизии. Туда же спешила пехота 3-го Кавказского корпуса. Но она могла подойти не ранее 25-го ноября, а было только 20-е. Поэтому кавалеристам приказали стоять насмерть. Общее начальство над двумя дивизиями возложили на старшего из двух начальников дивизий генерала Гилленшмидта.
Все гвардейцы понимали, что задача поставлена непосильная. Обе потрепанные в предыдущих боях кавалерийские дивизии при спешивании дали всего 2400 штыков, что эквивалентно трем пехотным батальонам. А в корпусе Войрша таких батальонов было 18. Против 84 немецких пушек у русских были только 24 конные пушчонки.
Неудивительно, что настроение в русских полках было подавленное: было понятно, что при таком соотношении сил немца не удержать. Никто не спал в эту ночь с 20 на 21 ноября: священники, наскоро облачась, исповедали желающих, солдаты переодевались в чистые рубахи - готовились умирать.
Утром все разошлись по своим местам. Наступил рассвет, но немцы молчали. Шли часы.
К полудню в штабы пошли доклады – немцы…. окапываются!
Не пошли они в атаку ни 22-го, ни 23-го.
А потом подошла кавказская пехота: немецкий прорыв не состоялся.
Что же произошло?

Когда на генерала Гилленшмидта возложили временное командование двумя кавдивизиями, то взбалмошный старик вообразил себя командиром корпуса и первым делом потребовал заменить дивизионный значок на корпусной. Дело в том, что в те времена, как наследие эпох войн наполеоновских и покорения Крыма, все штабы, перекрестки в тылу, места квартирования частей обозначались уставными знаками - для вящего порядка, удобства связных и удовольствия начальства (в Великую Отечественную секреты хранить немного научились - помните по фильмам указатели на дорогах «хозяйство Петрова»). Напрасно молодые штабисты, окончившие академии и оттого более грамотные и умные убеждали, что не положено, командование-то его временное - старик уперся. Ладно, плюнули и наскоро соорудили. Пусть тешится.
А умные немцы, готовясь к войне, заранее создали в приграничных районах агентурную сеть, и агенты эти были подготовлены со всей немецкой тщательностью: во всех этих русских уставных знаках разбирались, и связь работала. Вот в ночь на 21-е и пришло в немецкие штабы донесение, что к русским в Петроков подошел Гвардейский корпус. А это 32 батальона отборной пехоты.
Войрш немедленно доложил наверх, что при таком соотношении сил атаковать не сможет и будет готовиться к обороне. Наверху, естественно, одобрили - ну а как иначе: разве в немецкой армии кто-то может усомниться, что если стоит значок «корпус», то там совсем не корпус!
Интересно, что было бы, если б Гилленшмидт был таким же грамотным, как его штабная молодёжь? Разбили бы нашу кавалерию к чертям…
Придирчивый читатель обязательно спросит ехидно, мол, Гилленшмидт не особо русская фамилия!
Ответим цитатой из австрийской Справочной книжки, изданной Осведомительным отделом Главного Австрийского Командования под заглавием «Русская армия, начало 1917 года». Кроме сведений о русской армии в этом разведывательном справочнике приведены краткие характеристики различных народов, населяющих Российскую империю. Вот что в ней сказано про немцев: «Немцы в русских городах (купцы, профессора, врачи), равно как и колонисты, лишь частично сохранили их национальный язык и бытовые особенности, они в высшей степени русифицированы; живущие в остзейских провинциях имеют русскую психологию и занимают относительно много влиятельных военных и гражданских должностей».
Так что не смотрите на фамилии: обычный русский генерал, с вполне обычной русской фамилией.
Как слушали командиров
Случилось это в 1812 году, уже при наступлении русской армии, в районе Орши, в некой деревне Кисели. Командир I егерского полка, полковник Карпенков, квартируя в деревенской корчме, настойчиво пытался убедить заезжего интендантского чиновника отпустить полку усиленный запас сухарей. Чиновник, как и положено тыловику, отказывался. В разгар спора в корчму зашел в полной походной амуниции гренадер-егерь, любимец командира полка Федор Алексеев, известный своей храбростью, искусной стрельбой и наилучшим поведением. В бою он обычно служил командиру телохранителем, а сейчас доложил, что в деревне найдены дезертиры - два брата, рекруты именно I егерского полка, прятавшиеся у матери в скирде соломы.
«Где эти бездельники, подлецы, подавай их сюда».
Ввели виновных, шедших в сопровождении матери.
Полковник, желая постращать беглецов и устыдить укрывавшую их мать, произнес гневную речь: «Так-то вы, охочие наемщики, присягнув с целованием святого креста и Евангелия, взяв с нанявших вас денежки, да и бежать с ними к родной матушке на гумно , на службу в полк мышей и крыс. А ты, старая, тотчас приняла клятвопреступников, чем бы, напомня им про присягу и Божий гнев за нарушение клятвы, послать их явиться в свой полк. Вот они бы по милосердию Господню, за твою правду и молитвы о них, отслужа верою и правдою, возратились бы к тебе, на радость и утешение твоей старости, с крестами и медалями, какие у него, - он показал на Алексеева. – А теперь их за то, что они взяли наемные денежки служить государю своему и бежали, вот поставят их на глазах твоих спина с спиною и, чтобы не тратить лишней казенной пули на негодяев, одним выстрелом обоих положат в срамную могилу».
Выговорив это, полковник отвернулся, и так как перед ним оказался противный ему чиновник, вернулся к спору о сухарях. Алексеев с беглецами и матерью их вышел и… раздался выстрел.
Полковник изумился: «Что это значит?»
Отвечал ему присутствовавший при всех этих событиях командир первого батальона и давний друг и соратник Михаил Петров, который и оставил нам в своих воспоминаниях этот эпизод:
- Это означает, что Алексеев исполнил свято командирское ваше предначертание.
- Как, да неужели он, дьявольский сын и вправду это сделал. Я черт знает что с ним сделаю!
- Господин полковник, избави вас Бог, ежели Вы хоть вид гнева покажите храброму гренадеру, имеющему святую доверенность русского воина ко всякому вашему слову.
- Да я ведь только страшил этих беглецов и их мать.
Тут вошёел Алексеев:
- Исполнил, ваше высокоблагородие.
Полковник робко:
- Обоих?
- Точно так, как изволили приказать, одной пулею.
- А мать?
- Рыдает над ними.
- Ступай, ступай, - только и смог произнести командир.
Как пишет Петров «Гренадер повернулся лихо и вышел из корчмы бодро, как ни в чем не бывало. Полковник, стоя оцепенело… глядел на выходившее своё любезное везде-храброе чадо»
Делать было нечего.
Помолившись и покаявшись за нечаянную казнь (люди были искренне верующие), сел и отписал, как всё было, корпусному командиру графу Остерману, прося себе и гренадёру Алексееву прощения.
Через четыре дня на марше прибыл ответ, где среди прочего: «… храброму усердному гренадеру Алексееву вручить от меня приложенные здесь пять червонцев и, ежели нет по службе его никаких препятствий, произвести в унтер-офицеры». Что и было исполнено.
Благополучно дойдя с полком до Парижа, Фёдор Алексеев по истечении 20 лет службы и за многими ранами был выпущен в отставку с пенсией за знак отличия ордена Св. Георгия.
Как верили, или проклятие рода Мазуриных
Следующая жуткая история вполне может послужить основой для сюжета длинного телевизионного сериала, наполненного мистикой и пропавшими младенцами, которые потом серий сорок ищут своих матерей. По крайней мере, если б эта история реально не приключилась в Москве позапрошлого века, я бы принял её сюжет за сочинение современного сценариста.

Известный до революции московский купеческий род Мазуриных в 20 – 30-е годы ХIХ века возглавлял Алексей Алексеевич Мазурин, известный своей крепкой дружбой с одним греком, тоже богатым купцом, торговавшим сибирскими мехами, продаваемыми в Лондон, а также драгоценными камнями, привозимыми из Индии. Дружба их дошла до того, что они побратались между собой, то есть поменялись нательными крестами, надетыми на них во время крещения, после чего стали считать считаться родными братьями. Соответственно в делах купеческих оба доверяли друг другу, советовались о каждом деле, поддерживали взаимно деньгами.
Грек как-то решил совершить большую торговую поездку в Индию и перед отъездом занес Мазурину большой ларец с драгоценностями, прося друга взять на хранение: «У тебя дом каменный… не дай Бог пожар в моём деревянном… да и жена моя молодая, чего не бывает… увлечется и может растратить».
Мазурин охотно согласился. Еще грек оставил денег, достаточных на проживание семьи на два года. Поездку он рассчитывал на год, но на случай задержек, чтобы семья ни в чем не нуждалась, оставлял с запасом.
Поездка не удалась. У берегов Индии корабль путешественника затонул, и оставшийся без копейки, с трудом убеждая консулов, что он состоятельный человек, грек добрался до Европы, а потом до Москвы.
Прошло три года. Знакомые при виде грека испуганно крестились: оказывается, его давно считали умершим, и церковь молится за упокой его души, дом его год как сгорел, и семья теперь живет в нищете и бедности, так как Мазурин через два года отказался дальше давать.
Грек отправился к побратиму.
Наверняка при встрече у Мазурина была мысль сознаться… но былую дружбу это уже не вернет; и он пошел в отказ. Состоялся бурный разговор, завершившийся тем, что Мазурин сорвал с себя крест и швырнул в грека, говоря: «После твоих вымогательств и лжи я тебе не брат!»
Потом был долгий судебный процесс, на котором, в частности, малолетний сын Мазурина показал, что он видел, как отцу грек передавал ларец, но что в нем было, он не видел. В результате грек проиграл. Тогда уже Мазурин привлек его к суду за клевету. И суд отправил грека в тюрьму, откуда, по мнению Мазурина, ему было не вырваться.
Но дошло до государя. И тот наложил резолюцию, для современного человека сверхстранную: повелел грека из тюрьмы освободить, а Мазурина…. привлечь к принесению клятвы перед крестом и святым Евангелием, что он ларца не присваивал. Причем, об этом просил сам грек.
Стараниями московского начальства церемония принесения клятвы была обставлена весьма торжественно. В двенадцать ночи Мазурин вышел из дома босым, одетым в саван, перепоясанный веревкой, держа в руке свечу из черного воска. Перед ним духовенство в черных ризах несли крест и св. Евангелие, а по бокам шли священники в черных мантиях и со свечами в руках. На пути следования все церкви печально перезванивались, как при похоронах священника. Шли по Покровке, Маросейке, Ильинке, Красной площади до Казанского собора.
Несмотря на ночь, собралась вся Москва, многие плакали, глядя на бледного Мазурина, раздираемого борьбой совести с житейскими желаниями выгод.
В соборе священник держал слово, предупреждая о страшном гневе Божьем на клятвопреступника и возможной Его каре и в будущем мире, и даже тут, на земле; просил отнестись к клятве с полным сознанием святости совершаемого.
Мазурин поклялся в своей невиновности.
Вскоре грек заболел и скончался. Перед смертью посылал одного из друзей передать Мазурину, что умирает, что ничего от него уже не ищет и хочет только уйти истинным христианином, примиряясь со всеми; просил прийти, проститься.
Мазурин не пошёл. Грек скончался.
Друзья и родственники настояли, чтобы Мазурин пошел на отпевание: «Тебя осудят, если не пойдёшь». В конце церемонии, когда прощались при пении молитвослова «… целуйте мя последним целованием», Мазурин подошел к гробу и нагнулся поцеловать руку покойного, раздался сильный шум, от тела брызнула кровь. Мазурин бежал из церкви и вернулся домой уже сумасшедшим человеком, а вскоре умер. На похоронах он лежал, вывалив наружу неестественно огромный, темно-синий язык.
Ученые доктора, конечно, объяснили, что у покойного просто лопнула артерия, что всегда сопровождается сильным шумом, - такое редко, но бывает. Правда, никто не объяснил, отчего это произошло именно в тот момент, когда к телу подошёл именно Мазурин, и народная молва однозначно приписала сумасшествие и смерть его Божьему наказанию, и говорили, что понесет наказание весь род его вплоть до седьмого колена.
И похоже, проклятие действовало. Даже потомков по женской линии постоянно преследовали трагедии.
Кто-то страдал манией самоубийства, был закрыт родственниками в комнате, обитой толстым сукном, и твердую пищу получал только мелко нарезанной; в итоге он лишил себя жизни разбитой тарелкой. Кто-то стрелялся прямо во время чаепития с гостями в столовой, кто-то просто отличался большими странностями и душевными расстройствами.
Одна трагедия даже вошла в историю запечатленной в романе Достоевского «Идиот». В июле 1866 года Василий Фёдорович Мазурин, внук нашего героя, в доме своей сестры убил ювелира, пришедшего к нему с крупной суммой денег. Случилось это все прямо во время счастливой помолвки этой самой сестры. Пока на втором этаже гости разливали шампанское и начинали танцы, на первом происходила расчлененка. Итогом стал смертный приговор, замененный на 15 лет каторги.
Главное, что сами Мазурины во многих поколениях не сомневались, что на них на всех наложено проклятие.
Об офицерской службе
Как известно, император Николай II не был выдающимся оратором, об этом сообщают многие мемуаристы, так утверждают историки.

Но удивительно, лично я никогда не слышал лучших слов об офицерской службе, чем те, с которыми он обращался на ежегодном производстве в офицеры на Красносельском лагерном сборе к производимым юнкерам и вольноопределяющимся. Ни в советское время, ни в кино, ни в книгах, ни за все время службы таких хороших слов, замечательных своей простотой и одновременно достоинством не попадалось. Цитирую.
«Господа, сегодня самый знаменательный и отрадный для вас всех день. Помните то, что я вам скажу: будьте в течение всей вашей жизни хорошими христианами, честными и преданными слугами своей Родине и своему Государю. Служите изо всех сил и с полным сознанием, что, если каждый из вас честно и сознательно будет исполнять свое дело, какую бы маленькую должность он ни занимал, он принесет большую пользу Родине и своей части. Относитесь с уважением к вашим начальникам и без критики друг к другу, по-товарищески, памятуя, что все вы составляете частицу одной семьи — великой Русской армии. Служите примером подчиненным вам солдатам как в военное, так и в мирное время.
Поздравляю вас, господа, с производством в офицеры!»
Произносил он этот наказ с некоторыми вариациями не один год. По некоторым воспоминаниям ещё добавлял: «Будьте ближе к солдату».
Источники
-
Алла Бегунова. «Сабли остры, кони быстры (из истории русской кавалерии)».
-
Владимир Трубецкой. «Записки кирасира».
-
М. М. Петров. «Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о военной службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся с 1789 года».
-
Н. А. Варенцов. «Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое».
-
Н. Воронович. «Всевидящее око: из быта русской армии».
-
В. А. Каменский. «Производство в офицеры». Журнал «Военная быль».