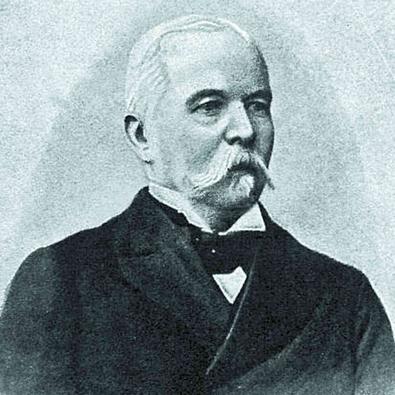- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 29 Исторические мозаики
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 29 Исторические мозаики
Вадим Приголовкин 13.09.2017
Вадим Приголовкин 13.09.2017
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 29
Исторические мозаики
Сватовство дворянское, или как найти подходящего зятя
Самарский помещик Путилов во времена Николая I был владельцем обширного поместья на левом берегу Волги, которое в своё время составили его предки, заселив своими крепостными пустынные земли на границе с кочевыми народами. Жил в поместье вдвоём с дочерью (жена и мать девочки умерла молодой) и подобно многим состоятельным помещикам того времени жизнь вёл довольно эксцентричную, с долей чудинки: ссорился и мирился с соседями, особенно с теми, в ком усматривал жеманство или снобизм, обустраивал поместье, составил из некоторых своих крепостных замечательный оркестр, широко известный далеко за пределами Самарской губернии, а других обучал различным ремеслам: скульптуре, отливке из гипса, рисованию, обивке мебели, резьбе по дереву. Будучи уже почти сорока лет, однажды вдруг велел запрячь лошадей и отправился в Казань, за 250 верст по плохим проселочным дорогам в осеннюю пору. В Казани снял на зиму дом, нанял репетиторов и после усердных занятий успешно сдал экзамены, получив аттестат об окончании Казанской гимназии. Занимал различные выборные должности в дворянских губернских организациях – причём ни разу не выбирался местным предводителем дворянства, но неоднократно был кандидатом в предводители, то есть занимал на выборах второе место – причиной был его едкий нрав и беспощадный язык: выборщики помещики ценили его энергию и способности и одновременно боялись и не любили.
Наверное, именно из-за этих свойств своего характера Путилов не особо контактировал с соседями, и посему придумал способ восполнять себе недостаток общения. По обычаю того времени, состоятельные помещики обязаны были следить за состоянием проходящих у их поместий дорог. В нескольких километрах от Богдановки проходила трасса, как сейчас бы сказали «федерального» значения, – Саратов-Оренбург. Путилов исправно поставлял почтовых лошадей для той части этой дороги, за которую отвечал, но при этом распорядился, чтобы всех более-менее интересных путешественников обязательно приглашали к нему в поместье, прежде чем они получат лошадей для дальнейшей дороги.
Однажды, в 1851 году, по дороге проезжал в Оренбург по делам службы молодой камер-юнкер В. Чарыков; на богдановской станции он был удивлён этим почти обязательным предложением гостеприимства. Присущее молодости любопытство, а также желание взглянуть на оригинала – хозяина, слухи о котором распространялись далеко вокруг, побудили его принять приглашение. Два столь разных по возрасту человека сразу прониклись симпатией друг к другу: Чарыков рассказал Путилову последние столичные и придворные новости, в то время как хозяин заинтересовал его эксцентричностью, сильной волей и образцовой организацией ведения домашнего хозяйства. Он представил гостя мадемуазель Аделаиде Путиловой, и та произвела на молодого человека столь глубокое впечатление, что визит его в Богдановку растянулся на четыре дня и, отъезжая, он обещал заехать в Богдановку на обратном пути. А когда вернулся, сделал девушке предложение, которое она приняла. Свадьба состоялась летом того же года.
О пользе красноречия для успешной карьеры
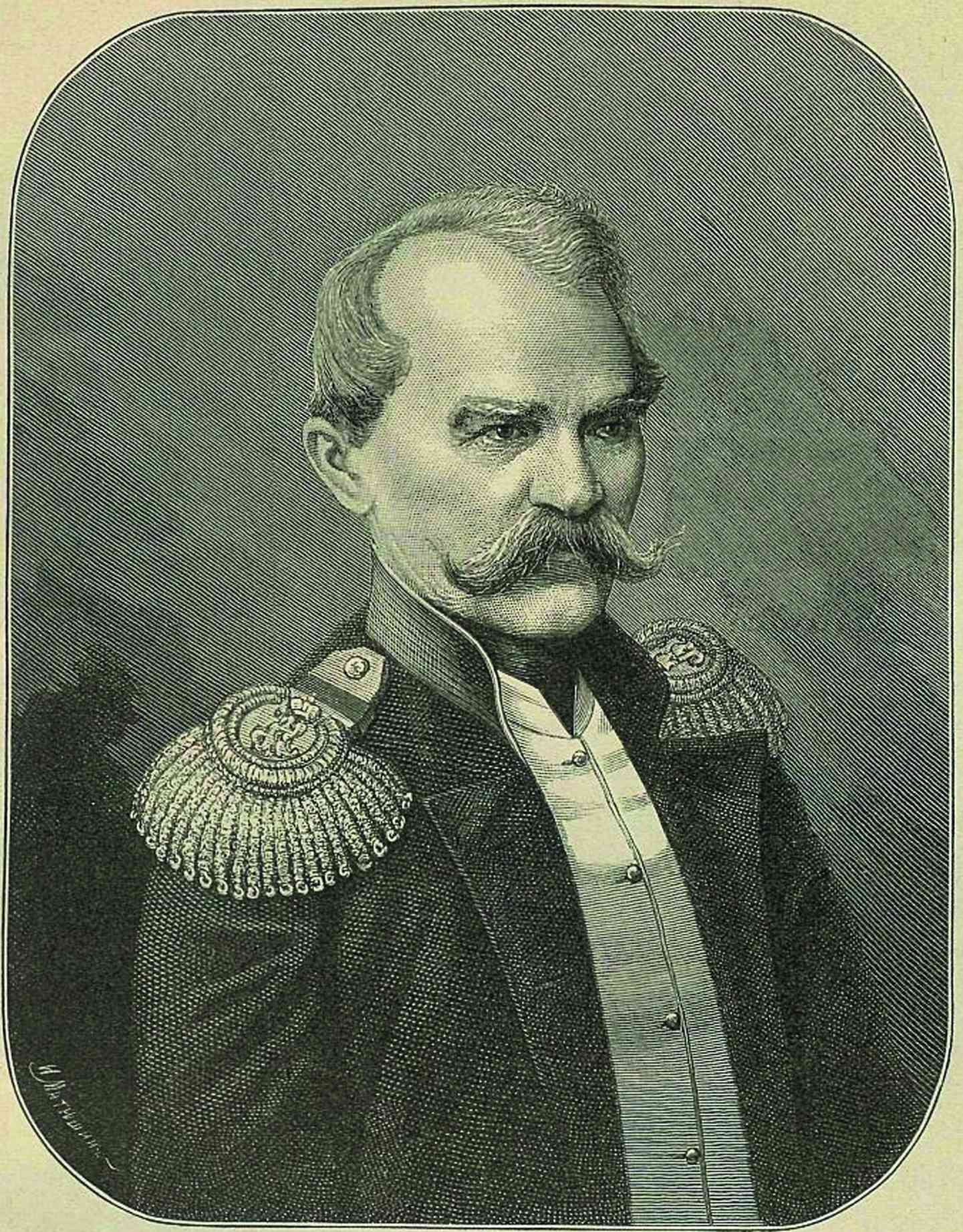
В 70-х гг. XIX века русский посол в Афинах Сабуров, по отзывам современников, был человеком исключительных дарований - недаром в своё время закончил Императорский Александровский лицей с золотой медалью. На беду, пришлось ему драться на дуэли. О причинах вызова история умалчивает – дело было сугубо личное, но не в этом суть. Дуэль для дипломата – событие чрезвычайное. Дуэль для посла, да ещё в стране пребывания – вдвойне. Дипломат не военный, которому неписанные (а в России одно время и писанные) нормы просто предписывали драться. Случившееся легко могло поставить крест на всей дальнейшей карьере Сабурова. Торопясь, чтобы не опередили завистники и конкуренты, Сабуров сам поспешил написать о случившемся канцлеру князю Горчакову, всесильному тогда главе русской дипломатии и своему непосредственному начальнику. Написал по-французски, как в ту эпоху было принято, на языке всемирной дипломатии: «Je sais qu'un diplomate qui se bat est comme un soldat qui ne se bat pas» (Я знаю, что дипломат, который дерётся, всё равно что солдат, который не дерётся). Горчаков, выпускник того же лицея, однокашник и друг Пушкина, любил умных людей и обожал остроумные фразы, Сабуров был прощён, дело замяли.
Более того, вскоре Сабуров получил повышение и был назначен послом в Берлин, где пользовался расположением Бисмарка, который также любил умных людей. Их стараниями в июне 1881 года было подписано соглашение между Россией, Германией и Австрией, гарантировавшее Европе прочный мир – соглашение, увы, не продлённое в 1890 году по причине отставки Бисмарка, что повлекло за собой переориентацию России на союз с Францией, со всеми, как показала история, роковыми последствиями как для России, так и для Германии.
Музы генерала Назимова

Генерал-адъютант Назимов завершил свою карьеру в должности Виленского генерал-губернатора, а в начале 50-х гг. XIX века был попечителем Московского университета. Человек он был чрезвычайно добрый и благожелательный к людям, но крайне малообразованный. Как и сейчас, тогдашнее студенчество любило подмечать все промахи и странности своих наставников и, понятно, что анекдоты про Назимова устаревать не успевали.
Генерал мог назвать прекрасные университетские статуи Аполлона, Венеры и др. – языческой сволочью, а Святополка окаянного зачислить в просветители России наряду с Владимиром Святым и Ярославом Мудрым. Однажды, зайдя в университетскую типографию, торопил с изданием работ. Подчинённые доложили, что шрифта нового, выписанного по случаю предпринятых работ, не хватает, потому корректоры не поспевают. «Ну так что ж, - не смутился администратор, - так употребляйте для корректуры старый шрифт, а печатайте новым».
На экзамене по зоологии у студента спросили, правда ли, что бегемот съедает 100 пудов сена; принимающий профессор Рулье поспешил почтительно шепнуть попечителю: «Это гипербола, Ваше Превосходительство». Назимов резко ответил: «Про гиперболу я знаю, господин профессор, что она съедает это количество сена, а я желал бы знать про бегемота».
Но апофеозом стала конечно история с музами. В университете к выпускному торжеству готовили актовый зал. Ответственный за убранство профессор Шевырёв обратился к попечителю за советом: «Всего бы приличнее поставить в зале имеющиеся у нас прекрасные статуи муз по обе стороны кафедры, но беда в том, что не знаю, как их разместить, хорошо бы по 4 с каждой стороны, но девятую не знаю куда девать, симметрии не будет». «Ну что же, - был ответ, - поставьте и десятую, по пять с каждой стороны».
На злобу дня: войны от Запада всегда полезны для нас

Вышеупомянутый профессор Шевырёв был известен в университете как искусный оратор. Его даже прозывали «сладкоречивый». Речь его, правда, отличалась некоторой витиеватостью, но это был стиль той, порой сентиментальной, эпохи, так что не будем строги, подходя с нашими современными мерками.
Сохранились воспоминания про его официальное выступление на выпуске 1855 года, том самом, украшенном всеми 9-ю музами (10-й так и не нашлось). Как отметили современники, речь сия, озаглавленная «Очерк развития университета», запомнилась всем несколькими любопытными данными, некоторые из которых были любопытны и в новинку не только выпускникам и студентам, но и многим профессорам и старожилам альма-матер отечественного образования.
Мы, к величайшему нашему удивлению, пишет современник, узнали, что при создании университета все лекции в нём читались по латыни, что один из первых профессоров Поповский, один из учеников Ломоносова, при открытии философских лекций в университете объявил, что «нет такой мысли, коей бы на российском изъяснить было бы невозможно», но предложение читать лекции по-русски прошло только в 1767 году, когда Екатерина Великая выразила желание, чтобы науки преподавались в университете по-русски.
И, конечно, профессор не мог не сказать о войне. Напомним, что 1855 год – это год оставления Севастополя, год завершения Крымской войны. Вся Россия жила осадой Севастополя, второй год жадно внимая всем сообщениям с театра военных действий, болезненно, как это свойственно русским во все времена, воспринимая каждое поражение, каждую неудачу, малейшую заминку. Естественно все ждали от главного университетского оратора, что он откликнется на злобу дня. И профессор сказал! Не подвёл. Цитируем.
«Войны от Запада всегда были полезны для нас, - заявил профессор, - тем, что вызывали в нас новые силы духа. Временные утраты богатства вещественного с избытком вознаграждались необыкновенным развитием сил духовных. Вспомним годы 1612, 1812. Это эпохи, от которых двинулось русское просвещение. Сорок два года тому назад война истребила у нас не сёла и дрова финляндские, не лодки архангельских крестьян с пшеницей и рожью, не виноградники Балаклавы – она сожгла и истребила Москву – и что же! Из её пепла возникли новые силы духа. Отсюда начало нашего развития в словесности и в науке, в жизни и промышленности… Пускай день и ночь работает наука наша над узнанием и открытием всех внутренних сил естественных и духовных русской природы, русского человека!»
Были профессора у императора Николая Павловича. Нынешние в основном слезливо убытки от санкций просчитывают. Нет бы сказать: «Войны от Запада полезны для нас…»
Примерное наказание
Во время отмены крепостного права было решено, что барщина будет сохранена ещё на два года. Это понятно - мера оправданная, даже обязательная, ибо сам процесс развода крестьян с помещиками, делёж земли и угодий требовал времени. Нельзя было одномоментно перейти на новые отношения – иначе стране грозил экономический крах, что в первую очередь ударило по тем же крестьянам.
Но Россия, конечно, не была бы Россией, если бы всё прошло чинно и гладко, как в Европах. Естественно, наши крестьяне после оглашения царского манифеста, даровавшего им свободу, по весне повсеместно на работу не вышли. Власти на местах тоже бездействовали, ибо самих властей по сути тоже на тот момент на местах не было – власть помещиков была отменена, а новые, вводимые по реформе органы власти ещё не сформировали. На несколько месяцев в стране возник вакуум власти, назревала анархия.
В селении Вычуге – большом и богатом центре бумажно-ткацкой промышленности, что в Костромской губернии на берегу Волги, крестьяне на весенне-полевые работы по вспашке полей не вышли, а к увещеваниям приехавших уездного предводителя и исправника отнеслись равнодушно. На Вычугу равнялась вся округа, работы нигде не начинались - все ждали, чем разрешится конфликт. Местные чиновники пребывали в растерянности, сами не зная ещё как быть и чего хотят высшие власти.
В такой ситуации из С-Петербурга пришла телеграмма, в которой губернатору, без предварительного запроса его мнения, предписывалось примерным наказанием потушить бунт в самом зародыше.
Губернатор взял войска, выехал лично. Столкновений не произошло: крестьяне молили о пощаде. Как тогда водилось в подобных случаях, у крестьян потребовали выдать зачинщиков, из коих выбрали троих, которым и пришлось отдуваться за всех, став тем самым «примером». После экзекуции губернатор каждому лично выдал по пять копеек, говоря: «Купи свечку и поставь её образу Спасителя в благодарность, что я тебя не засёк до смерти».
Дня через два во всех усадьбах начались работы.
Но если читатель думает, что этим дело и кончилось, что это конец истории, то он ошибается.
Концовка такова.
Необходимость проявить суровость, сама экзекуция, а также позиция столичного министерства, которое, не входя в объяснения, просто потребовало от местных властей проявить суровость, настолько подействовали на губернатора, что он слёг в постель и больше не встал. Иван Васильевич Романус, бывший Костромским военным и гражданским губернатором с 1857 года, скончался в том же 1861 году, всего 58-ми лет от роду. Скончался от огорчения, говорили современники.
И ещё о взятках
Дело было в начале 50-х гг. XIX века. Костромской губернатор, объезжая подведомственные земли с ревизией, в Ветлужском уезде спросил местного уездного исправника Колюпанова прямо:
- Мне донесли, что Вы берёте взятки. Правда ли это?
Ничуть не смутившись, исправник ответствовал столь же прямо:
- Да, я беру, ибо мне нужно уплачивать управляющему Вашей канцелярии по 3000 рублей в год. Я своих денег не имею и не могу обойтись без взяток.
Вообще же Нил Петрович Колюпанов был известен как человек честный и взятки брал лишь по необходимости, чтобы губернские чины не придирались к уезду. Несколько позже, заняв выборную должность уездного предводителя, Колюпанов прославился тем, что его уезд раньше других покрылся школами и медицинскими учреждениями, и отдалённая Ветлуга на какое-то время приобрела славу считаться маленьким просветительным центром.
Наш способ борьбы со взяточниками

После Крымской войны 6 лет в России не было призыва в армию. А когда государство после долгого перерыва решило пополнить ряды в армии, то событие это пришлось на первые пореформенные годы, когда старая система набора призывников, основанная на крепостном праве, с отменой этого самого крепостного права перестала существовать, а новую еще не выработали. Строго говоря, конечно, это был не призыв, а рекрутский набор – понятие «призыв» появилось несколько позднее, с появлением в 1874 закона, говоря современным языком «О всеобщей воинской обязанности» (Устав о всеобщей воинской повинности был утвержден 1 января), но мы для удобства читателей позволим себе маленькую вольность в терминах.
Итак, после многолетнего перерыва в стране был объявлен очередной призыв. Для его проведения был принят специальный закон, определяющий как проводить набор среди крестьян, вышедших из крепостной зависимости. По этому закону право определять основания для выбора рекрутов и определения очередности между семействами, обязанных выставить рекрутов-призывников, было предоставлено волостному сходу, то есть самим крестьянам.
Мужички подошли к делу творчески.
В то время как раз начали очищать столицы от всякого пришлого элемента – опять же, говоря современным языком, от «лимитчиков» и прочих «понаехавших тут». Дело в том, что в центральной и северо-западной России, земли которой в отличие от южных и черноземных губерний не могли гарантированно прокормить население в течение долгой зимы, издавна существовала традиция, по которой помещики часть своих крепостных отпускали в город на вольные хлеба. Эти люди жили в городах годами, и единственная их обязанность по отношению к барину заключалась в том, чтобы ежегодно отсылать на малую Родину свой эквивалент оброка – что называется, заплати налоги и спи спокойно! С отменой крепостного права и, значит, с отменой для таких людей всяких обязанностей перед барином и общиной, эти люди как бы подвисли в воздухе, многие пустились во все тяжкие, отчего городские власти озаботились выселением беспокойного народа по месту изначальной прописки. В результате в каждой волости появились бездомные, давно уже оторвавшиеся от родных очагов и спокойным поведением не отличавшиеся.
Недолго думая, волостные сходы во многих местах постановили поставить подобных лиц на призыв в первую очередь. Интересна формулировка обоснования подобного решения - как лиц, показавших свою неспособность к ведению хозяйства и добропорядочной семейной жизни!
Затем, во вторую очередь, по решению «общества» призыву подлежали семейства богатых крестьян, прежде откупавшиеся у помещика от призыва за долгий период времени, и семейства бывших бурмистров (во время крепостного права - местный управляющий из крестьян, назначаемый помещиком); бывало, что должность такого управляющего, если помещик был им доволен, переходила от отца к сыну, и были семьи бурмистров, не выставляющие рекрут на протяжении нескольких поколений. Но у русской деревни долгая память. Мужики всё помнили и теперь вот отыгрывались.
И только после этих двух категорий выставляли рекрутов остальные семейства, исходя из числа взрослых работников в семье.
Такие, или примерно такие, решения повсеместно принимались на многих волостных сходах в те первые годы переходного периода, пока не был принят закон «о воинской обязанности».
Н. Н. Куломзин, служивший в те годы мировым посредником и в силу своей должности принимавший участие в наблюдении за точным исполнением решений, утверждённых сходами, вспоминал, что возникло опасение, что безусловному выполнению крестьянских постановлений может помешать уездный врач.
Уездный врач – фигура важная! В рекрутском присутствии он царил всецело, мог по своему усмотрению браковать любого призываемого, и никто его решение оспорить не мог. А врач в уезде Куломзина был известный взяточник. Богатые мужики могли поднести ему хороший куш и опровергнуть любые волостные постановления.
Что делать?
Спустя полвека Куломзин вспоминал, что мировые посредники «… решились на меру, невероятную по нынешним временам. Мы разрешили волостным старшинам вступать с врачом в миролюбивые отношения. Ему было вручено по пять рублей с рекрута, с волости следующего, и он обязался не брать взяток с остальных лиц».
Наверное, дать взяточнику взятку, чтобы он не брал взяток, могли только в России. Благо, что взяточник-врач из этой истории оказался человеком честным и сдержал слово. Все годные люди были приняты, а врач не лишился своего «законного» дохода с набора.
Справедливости ради следует отметить, что обычай сдавать хулиганов в солдаты существовал на Руси издревле, и не только в среде частновладельческих крепостных, но и среди крестьян государственных, и в городских общинах. И не только в солдаты – могли по приговору схода и в Сибирь отправить, на поселение, если не уживаешься с земляками. Но, впрочем, мы об этом уже писали.
Визит вежливости
В наших заметках мы уже писали о странном, нигде не писанном обычае, существовавшем в России: приезжая в какую-нибудь Тмутаракань, приезжие считали своим долгом представиться не только местному начальству и местным «лучшим» людям, но и сосланным в город, если они в таковом имелись.
Вот на эту же тему. Только теперь речь не о провинции, а о самом Лондоне. Как отмечают современники, в середине XIX века для русских путешественников самой интересной в нем личностью был… Герцен. Быть в Англии и не побывать у Герцена считалось невозможным. Сам диссидент, разбудивший большевиков, подобную традицию поощрял – дом его в приёмные дни, когда у него собиралась вся русская колония, был открыт любому, без исключения. Обычная картина: Герцен восседает в своем кабинете, вокруг человек 20; Герцен сыплет анекдотами и смешными рассказами, окружение большей частью молчаливо внимает.
Сам Герцен рассказал однажды: «Вообразите, подают мне карточку, полковник русской службы такой-то. Начинаем разговор, но тут понемногу открывается, что полковник совсем не сочувствует моим взглядам. Тогда, наконец, я ему говорю: да позвольте, наконец, если Вы мне не сочувствуете, так чему я обязан Вашим визитом?». «Бывши в Лондоне, счёл своим долгом представиться!» - был ответ.
Почему Россия непонятна, загадочна и непобедима

Достаточно популярна фраза: «Россия – это страна, которая управляется самим Богом; иначе просто непонятно, как она существует». Считается, что авторство принадлежит Миниху, русскому фельдмаршалу XVIII века. Человек судьбы достаточно типичной для России во все времена: службу начал при Петре Великом, который первый оценил таланты молодого человека, генералом и фельдмаршалом стал при Анне Иоанновне, сидел при Елизавете, амнистирован при Екатерине.
Он ли был автором этого выражения или, как это часто бывает, просто озвучил народное, нам неизвестно. Но есть другой вариант. Менее популярный: «Всё в России совершается премудростью Божией и глупостью человеческой». Эту фразу, в частности, любил другой русский фельдмаршал, уже XIX века, Милютин, который, в отличие от предшественника, на своём авторстве не настаивал.
Источники:
-
Н. А. Варенцов «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое»
-
А. Н. Куломзин «Пережитое»
-
Н. В. Чарыков «Беглый взгляд на высокую политику»