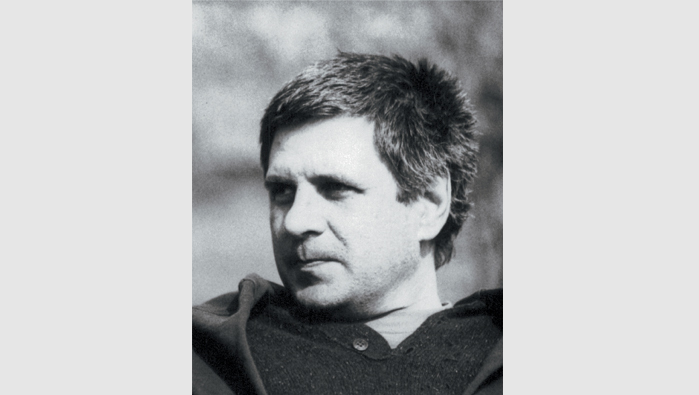- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 78 Исторические мозаики
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 78 Исторические мозаики
Вадим Приголовкин 24.10.2021
Вадим Приголовкин 24.10.2021
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 78
Исторические мозаики
Настоящий градоначальник
Пётр Дмитриевич Еропкин прославился во время чумы в 1771 году. Чума началась в декабре 1770-го, но особенно стала свирепствовать в Москве в марте 71-го. Наместником в Москве в то время был граф Пётр Семенович Салтыков, губернатором - Бахметев, обер-полицмейстером – Юшков Иван Иванович. Они все испугались и со страху разъехались: Салтыков уехал в своё подмосковное Марфино, те тоже попрятались. Москва осталась без присмотра. Тут-то Еропкин, видя город в опасности, добровольно решился принять на себя управление городом. Вскоре императрица Екатерина прислала графа Орлова, а Еропкину приказала быть его помощником. Салтыкова от должности отставили, и его это так поразило, что он стал хворать и через год умер. Москвичи поговаривали, что умер, глубоко раскаиваясь в своём малодушии, что умер с позором в отставке за свой побег. Москвичи в этом плане были строги: убитого и растерзанного народом во время этих событий архиерея Амвросия в общественном мнении тоже винили, что оторопел и стал прятаться от бунтовщиков: считали, что ему следовало дождаться народа в Чудовом монастыре и встретить народ будучи в архиерейском полном облачении и с крестом в руке, тогда б вряд ли кто решился поднять на него руку. Устрашился по малодушию, чрез то сам пострадал. Так судили в Москве, а Москва слезам не верит[1].
Усмирять народ пришлось Еропкину. Государыня прислала ему Андреевскую ленту и пожаловала несколько тысяч душ крестьян, но Пётр Дмитриевич обрадовался ленте, а вотчин не принял: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем: к чему же нам еще набирать себе лишнее».
Когда в 1786 году Пётр Дмитриевич был сделан московским главнокомандующим, он отказался переезжать в казённый дом, положенный ему по чину, а остался жить в своём доме на Остоженке. Ещё отказывался принимать деньги, отпускаемые казной на угощения. Во время посещения Екатериной II Москвы он давал ей праздник у себя в доме и на вопрос государыни: «Что я могу для вас сделать, я желала бы вас наградить?» отвечал:
- Матушка государыня, доволен твоими богатыми милостями, я награждён не по заслугам: Андреевский кавалер и начальник столицы, заслуживаю ли я этого?
Императрица настаивала:
- Вы ничего не берёте на угощение Москвы, а между тем у вас открытый стол: не задолжали ли вы? Я заплатила бы ваши долги.
Он отвечал:
- Нет, государыня, я тяну ножки по одёжке, долгов не имею, а что имею, тем угощаю, милости просим кому угодно моего хлеба-соли откушать. Да и статочное ли дело, матушка государыня, мы будем должать, а ты, матушка, станешь за нас платить деньги; нет, это не приходится так.
Императрица, видя, что Еропкину дать нечего, прислала его жене орден св. Екатерины.
Современники описывали, что был Еропкин высокого роста, очень худощавый, немного горбился, в целом, очень приятной наружности; кто помнил его смолоду, говорил, что был он очень красив. Был очень умён, благороден и бескорыстен, в разговоре очень воздержан, в обхождении прост и без всякой кичливости.

В полной мере характер и ум его характеризует следующий случай.
У него был приятель, некто Собакин, дружили много лет, ещё до возвышения Еропкина. Собакин был бездетный, всё имение его следовало родному по сестре племяннику. За что-то дядя рассердился на племянника и надумал лишить его наследства. Приехал к Еропкину:
- Я, братец мой, к тебе с просьбой: ты знаешь, я тебя люблю, детей у меня нет, желаю тебе отдать всё моё имение.
- А твой племянник? – спросил Еропкин.
- Мерзавец, мотишка, ждёт моей смерти! Ничего я ему не оставлю.
- Ну, как угодно, а я не приму, у меня тоже нет детей…
- Так ты, стало быть, отказываешься?
- Отказываюсь.
- Ну, хорошо; жаль, что тебя прежде не знал.
Друзья перессорились и расстались. Горячие люди эти московские дворяне осьмнадцатого века!
Через несколько дней Еропкин приехал к Собакину.
- Прости меня, что я с тобою погорячился и не принял, что ты мне отдавал по дружбе.
- Стало быть, ты готов теперь принять?
- Да, не откажусь.
- Ну, ладно, помиримся.
Дружба восстановилась, всё своё имение Собакин по купчей передал Еропкину.
В свой срок Собакин умер. Еропкин послал известить племянника, что дядя умер, чтоб тот ехал его похоронить. Племянник: «Это меня не касается; кто получил имение, тот и хорони, я не наследник». Тогда Еропкин объяснил, что решился взять имение, опасаясь, что Собакин в итоге отдаст его другому, и племянник тогда и взаправду всего лишится. И возвратил имение племяннику.
Скончался 80-ти лет, играя в рокамболь, в том самом своём особняке на Остоженке. Еропкинский переулок, что между Остоженкой и Пречистенкой, это о нём.
Как беречь покой старушки-матери
В семействе Лужиных было два брата: Дмитрий и Фёдор Сергеевичи, сестра их Марья Сергеевна да старушка-мать. Летом они проживали в Григорове, маленьком сельце, в небольшом, но хорошеньком именьице в домике с мезонином, а зимой - в Москве, в собственном доме. Григорово в своё время по разделу досталось меньшому брату Фёдору Сергеевичу, а старшему Дмитрию - другое имение, в том же Дмитровском уезде верстах в 50 от Москвы, село Воронино.
Старший брат был мот и имение своё спустил потихоньку, втайне от матери - боялся огорчать старушку. Братья были дружны между собой, и чтобы ещё лучше скрыть от матери, что Вороново уже не принадлежит им, они договорились, и когда каждую неделю приезжали в Москву подводы с припасами, с сеном, дровами, они говорили старушке, что привозится это через раз - то из Григорова, то из Воронина. Так старушка Лужина и умерла, не узнав, что Вороново продано и что вся семья только и существует, что Григоровым да московским домом.
Фёдор Сергеевич в молодости ухаживал за какой-то из княжон Белосельских. Он был очень милый и довольно симпатичный человек, служил в гвардии, но состояние, как мы видим, имел весьма небольшое, но молодая и богатая княжна ему очень нравилась. Он долго собирался с духом и, наконец, решился. Что ему ответила княжна, история не сохранила, известно только, что на следующий день утром ему подали записку, и он прочитал:
Господин Лужин,
Княжне вы не нужен,
Но вас зовут на ужин.
Возможно ещё на что-то надеясь, он поехал к Белосельским, а там ещё хлеще: за ужином пили за здоровье княжны и жениха, за которого её просватали; можно представить чувства отвергнутого воздыхателя. Вскоре после этого он вышел в отставку, уехал жить в деревню и прожил всю жизнь старым холостяком, вспоминая о прекрасной княжне.
Дмитрий Сергеевич был женат, жена его после смерти мужа жила в Григорове. У неё было три дочери и сын Ванечка. Девочки все хорошо вышли замуж, а племянник Фёдора Сергеевича был в своё время записан на службу и жил в Петербурге: старик-дядя и тётка его очень любили и во многом себе отказывали для того, чтобы можно было побольше послать ему денег. Он был молодец добрый и видный и пришёлся по вкусу Иллариону Васильевичу Васильчикову, пока просто генералу, ещё не князю и графу. Дочери князя Екатерине Илларионовне молодой человек пришёлся по мысли, и она за него вышла замуж.
И надо же, именно в том самом году, когда состоялась свадьба, Васильчиков стал графом, а позже и князем.
Так судьба вернула долг Фёдору Сергеевичу, не самому, так через племянника. Наверное, за порядочность.
Иван Дмитриевич Лужин в 1845-1854 годах был московским обер-полицмейстером, потом губернатором в Курске и Харькове. Между прочим, Иван Дмитриевич способствовал свадьбе Пушкина с Натальей Гончаровой. По просьбе друзей, танцуя на балу с Гончаровой, завёл с ней, а потом и с её матерью мимоходом разговор о Пушкине, чтобы выяснить, что они о том думают. С этого, по сути, и началось сватовство поэта.

Как излечить от пьянства, или настоящий градоначальник-2
Князь Дмитрий Владимирович Голицын в 1820 году был назначен московским генерал-губернатором и правил столицей неотступно почти четверть века, до самой своей смерти в 1844 году, двадцать пять лет. Фактически, особенно в первые годы, на его долю выпало восстановление Москвы после европейского нашествия 1812 года.
Москвичи его очень любили.
Будучи знатного и богатого рода и несмотря на высокую должность, жил он… как бы сказать… в общем, средств ему постоянно не хватало. Голицынским наследственным имением самовластно распоряжалась мать Дмитрия Владимировича княгиня Наталья Петровна Голицына; «Пиковая дама» Пушкина – это она; рождённая ещё в начале царствования императрицы Елизаветы Петровны, фрейлина, она видела двор пяти императоров; государи все относились к ней с удивительной предупредительностью, почти с сыновьей любовью, вплоть до того, что по желанию её к ней в имение могли прислать придворных певчих, будучи очень старой, старожилкой, которую все уважали, и даже боялись, в высшей степени надменная с равными себе и приветливая с теми, кого считала ниже себя - немудрено, что всех вокруг она считала молодёжью и никак не могла взять в толк, что дети её уже сами немолоды. Когда сын её, будучи уже генерал-губернатором, бывал в Петербурге и останавливался в доме у матери в комнатах на антресолях, княгиня всегда призывала дворецкого и наказывала ему «позаботиться, чтобы всё нужное было у Митеньки, а пуще всего смотреть, чтобы он не упал, сходя с лестницы». Сын без разрешения матери и сесть не смел. Дочерям своим старая княгиня при их замужестве выдала по 2000 душ, а Дмитрию Владимировичу выдавала ежегодно ассигнациями по 50000 рублей. Это генерал-губернатору! Будучи начальником Москвы, тот не мог жить как частное лицо, и хотя получал от казны на приёмы и угощения, этого ему недоставало, и он вынужден был делать долги. Дошло до того, что озаботился император Николай Павлович, сказал княгине, чтобы она дала что-нибудь своему сыну губернатору! Старушка смилостивилась и прибавила ещё 50000 ассигнациями. Старушка думала, что щедро награждает сына, но по факту, из имения, кроме 100 душ своей деревеньки, до самой кончины матери он ничего не имел. Старая княгиня умерла в 1837 году, а князь Дмитрий Владимирович - в 1844, следовательно, практически всю свою жизнь он провёл, почти ничего не имея, и только за шесть-семь лет до смерти получил следовавшие ему 16000 душ. В защиту старой княгини скажем, что муж её, бригадир в отставке, человек простоватый, от дурного управления так запутал семейные дела, что все её огромное состояние больше приносило убытка, чем дохода. Наталья Петровна взяла управление в свои руки и, будучи женщиной очень умной и, как о ней говорили, великая мастерица устраивать свои дела, первым делом, чтобы расплатиться с долгами, продала половину имения, а потом так хорошо всё устроила, что когда умерла почти ста лет, оставила после себя состояние чуть ли не больше первоначального.

Для тех, кто ещё не понял: послушный матери сын князь Дмитрий Владимирович Голицын, 1771 года рождения, генерал от кавалерии, ещё в 1794 году участвовал в штурме Праги, том самом, суворовском, сражался в эпической битве-резне при Прейсиш-Эйлау в 1807, в 1812 командовал кавалерийским кирасирским корпусом, отличился в сражениях при Бородино и Красном. От последствий ран, полученных при Бородино, скончался его старший брат Борис, тоже генерал. Вот такой Митенька, за которым мама просила следить на лестнице и деньгами не баловала!
И при этом, отмечал современник: «Нет счастливее матери, как старуха Голицына; надо видеть, как за нею дети ухаживают, а у детей-то уже есть внучата».
Москва Дмитрию Владимировичу многим обязана: он первым обратил внимание на плохое освещение улиц, на пожарную команду, на недостаток воды. А главное - князь со всеми был прост и доступен и всем готов был помочь, если только мог (а говорили, что невозможного для него не было). Ещё отмечали, что за всё время своего долгого правления он никого не сделал несчастным и многих людей спас от гибели, тех, кто без его помощи давно бы оказались в Сибири или даже на Камчатке.
Мы как-то писали, что практически в каждом богатом доме был свой любимый слуга-пьяница, которому все прощалось. Был такой и в московском доме князя. Старенький камердинер выпивал нередко, князь его только слегка бранил, отчего тот воздерживался от спиртного всё реже и реже. Этот камердинер, когда князь уезжал вечером в театр или на бал, должен был дежурить и дожидаться его возвращения. Кроме этого камердинера в доме оставался только швейцар, остальных слуг князь отпускал; возвратясь домой, князь звонил, камердинер являлся и помогал князю раздеваться, ложась спать. Однажды, возвратившись поздно, князь позвонил – камердинер не идёт; немного погодя князь звонит ещё - никто не является, звонит ещё - и снова никого нет. Князь идёт в соседнюю комнату и находит слугу мертвецки пьяного на полу. Московский генерал-губернатор и потомок Рюрика разул, раздел старика и уложил в постель, сам пошёл к себе в спальню и разделся один.
Утром камердинер проснулся: что был пьян и дожидался князя, он помнил, а как вдруг очутился в своей постели разутый и раздетый - понять никак не мог. Отправился опрашивать прочих слуг, кто вчера встречал князя? Отвечают: швейцар, как обычно. Кого звал ещё князь? Отвечают: никто, никого и не было. Это старика ужасно тронуло. Он просил прощения у князя и, расчувствовавшись, дал себе слово никогда более не пить и, говорят, слово своё сдержал: больше не напивался.
Мы, конечно, не гарантируем, что подобный рецепт сработает: для этого обязательно надо, чтобы человек был совестливым.

Скончался Голицын в Париже, куда поехал лечиться, но не перенес нескольких операций. Хоронить его привезли в Москву, и современники говорили, что таких торжественных похорон Москва не знала[2] – провожать его вышел весь город. Это было народное выражение всеобщей любви к любимому градоначальнику.
Тонкости воспитания мальчиков и девочек
У князя Голицына и его жены Татьяны Васильевны были две дочери и два же сына. Случилось так, что девочки были много старше братьев; старший сын родился уже после нашествия французов, младший - спустя ещё несколько, чуть ли уже не после того, как девочек отдали замуж. Княгиню такая разница в возрасте её мальчиков и девочек более чем устраивала.
Она вообще имела свои взгляды на воспитание детей, говорила не раз:
- Когда в семействе бывают дочери и сыновья, воспитание одних мешает обыкновенно воспитанию других; я в этом была особенно счастлива, как немногие матери: когда воспитание моих дочерей окончилось, и я отдала их замуж, тогда началось воспитание моих сыновей, и я могла исключительно ими заняться; это случается крайне редко.
Вообще Москва если губернатора князя любила и уважала, то жену его просто обожала. Очень добрая и внимательная ко всем, вплоть до того, что если на балу в своем доме, обходя гостей, видит, что молодая девушка не танцует, обязательно пошлёт к ней кавалера. Вообще она была женщина домашняя, рождённая для тихой семейной жизни, и не скрывала, что самое счастливое время её жизни было, когда князь был в отставке, и они подолгу жили в своей маленькой Рождествене до назначения князя в Москву, и в те годы всё её время занимало именно воспитание дочерей.
Женщины и война
И историки, и мемуаристы дореволюционного времени крайне скупы на некоторые подробности войн всех этих «галантных веков». Ну, обмолвится автор: «Помещик N жил один, жену его и дочерей в 1812 году увезли с собой проходившие французы». И всё, больше ни слова, в детали вдаваться не будет.
Некий Головин, живший в своём селе Деденеве-Ново-Спасском, недалеко от Москвы, попался французам врасплох: сидел за обедом с женой и детьми. Взглянул в окно - и видит французов, идущих прямо к его дому. Ситуация. Головин нашёлся: вышел навстречу и предложил французам разделить с ним трапезу, хотя был в общем-то, как тогда говорили, великий неохотник до иностранцев. Французы предложение приняли, но потребовали, чтобы и хозяин сел с ними и предварительно пробовал каждое блюдо. Боялись отравы. Так и избежал разора в доме и в селе: на удивление, французский отряд, некоторое время простоявший недалеко лагерем, вёл себя хорошо и смирно, не грабили и только просили не звонить в большие колокола, опасаясь, что войска примут звон за сигнал тревоги и переполошатся по-пустому. И всё же Головин, не будь глуп, жену и детей отправил из дому подальше; она была молода и хороша, ну и муж, как потом говорил, рассудил за благо быть ей подальше от этих головорезов.
А вот история из так сказать противоположного лагеря.
Мадам Рено, вдова парижского коммерсанта, имела единственного сына, молодого человека лет двадцати. Аккурат перед походом в Россию сын её попал в конскрипционные[3] списки и должен был отправиться в поход. Опечаленная мать, недолго думая, решилась следовать вслед за сыном и устроилась маркитанткой в его полк, с которым и совершила утомительный поход в Россию. При отступлении из Москвы она оказалась в плену. В числе подобных француженок, в лютые морозы одетых в нагольные тулупы, толпой гнали их куда-то - то ли в Минск, то ли в Могилёв, где поместили в острог. Мадам Рено при случае обратилась к местному губернатору с просьбой узнать, в живых ли её сын Доминик и где он находится. У губернатора были дочери; мадам Рено ему очень понравилась, и он предложил ей место гувернантки в своём доме. Понятно, что француженка была очень рада! Её очень любили, а через несколько лет, когда все барышни вышли замуж, она рассталась с приютившим её семейством и поспешила в Москву, где в это время… устроился её сын. Прям как в известном номере: «Что мы за народ такой, русские, всех побеждаем, и все они у нас жить остаются!»
Как раз в это время Дмитрова решила взять гувернантку для старших дочерей 16 и 10 лет. «В первые годы после нашествия и мысли не было в доме, чтобы взять к себе кого-либо из их нации, - вспоминала Дмитрова, - слишком свежи были в памяти все ужасы войны; глава семейства Дмитрий Александрович более двух лет вообще не мог слышать французского языка и даже запретил детям разговаривать в своем присутствии иначе как по-русски».
Но время и отходчивая русская душа делали своё дело, и когда в доме появилась старушка лет около шестидесяти, очень приличная, в тёмном платье, очень тихая в манерах и спокойная, то она тотчас решила её взять.
А уж рассказанная мадам Рено история её попадания в Россию окончательно решила выбор в её пользу.
Уговорились на две тысячи рублей ассигнациями в год. Кроме того, француженка выговорила, чтобы через воскресенье хозяйка давала ей карету, непременно четвернёй, чтобы ездить к обедне в католическую церковь где-то на Басманной, на другом конце Москвы.
- Знакомых у меня нет, - пояснила свою просьбу мадам Рено, - кроме церкви мне ездить некуда, а сыну моему позвольте по воскресеньям и праздникам приходить обедать.
Выбор оказался удачен; мадам Рено оказалась женщиной достойной уважения: умная, спокойная, благочестивая, с прекрасным парижским выговором и с манерами и обхождением хорошего общества.
Она совершенно сроднилась с семьёй до того, что и сына своего считала как бы общим и, говоря о нем, всегда называла его «наш сын».
Этот сын, бывший военнопленный армии Наполеона, тоже очень неплохо чувствовал себя в Москве; несколько лет спустя он женился на дочери книготорговца Рисса, который потом передал ему часть своей книжной лавки.
В общем, как спустя сотню с небольшим лет сказал ещё один переживший русскую войну и русский плен иностранец, «русские всегда непредсказуемы, если он сразу тебя не убил, то потом может оказаться неожиданно добр».
[1] Мы тут изложили именно отношение московского общества к случившимся трагическим событиям и поведению отцов города, которое интересно само по себе: по мнению многих историков, вина и «малодушие» того же Салтыкова сильно преувеличены. Соловьёв, например, пишет, что Салтыков уехал в своё имение всего на два дня, но ему не повезло, что именно в эти дни и вспыхнул злосчастный бунт: Салтыков сразу вернулся, деятельно занимался наведением порядка, но было уже поздно - доверие к нему императрицы и москвичей было подорвано.
[2] Правда, ещё в то время сравнивали прощание с митрополитом московским Филаретом; если князь управлял Москвой четверть столетия, то другой святительствовал в первопрестольной более 45 лет.
[3] Во Франции и некоторых других странах Европы: форма воинской повинности, допускающая замену призываемого другим лицом или денежный откуп от призыва.