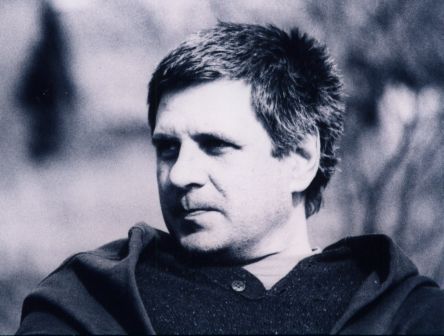- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 11
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 11
Вадим Приголовкин 25.03.2016
Вадим Приголовкин 25.03.2016
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 11
Исторические мозаики
Авось или война по-русски.
2-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска 24 июля 1904 после боя с японцами года расположилась на ночлег в китайской деревне Манзачензы. После боёв, бессонных ночей и долгих переходов все устали.
Утром следующего дня заместитель командира полка подполковник Квитка записал в свой дневник, который добросовестно вёл всю войну:
«Ночью я вышел посмотреть, на местах ли дневальные: у ворот нашего двора дневальный храпел во всю мочь; прежде чем разбудить его, я поинтересовался узнать, как несут службу другие, заглянул в соседний двор – дневальный спал, в следующем – тоже, обошел я десятка два дворов – везде раздавался могучий храп, и ни одного человека, не спавшего, я не увидел».
Восхитительна реакция офицера: «Будить их не стоило, все равно они заснут опять, как только я удалюсь; я вернулся к себе и последовал их примеру в надежде, что нас охранял Св. Николай-угодник».
Андрей Валерьянович Квитка был солдат опытный, потомственный малороссийский казак, гвардеец. Золотое оружие за храбрость получил еще в 1877 году в Турецкую войну за Плевну - первым ворвался в турецкий редут и в азарте боя даже вскочил на турецкую пушку. Потом участвовал в походах в Туркмению под началом Скобелева. Так что в военном деле он знал толк. К началу Русско-японской войны он уже 20 лет как находился в отставке, проживая большую часть времени во Франции и Италии, где имел неплохую недвижимость. Тем не менее, немолодой уже, богатый и обеспеченный человек с началом войны немедленно подал прошение о направлении его в действующую армию. На войну отправилась и его жена, трудилась сестрой милосердия.
.jpg)
С собой на войну за свой счет полковник взял итальянца, отличного и дорогого повара, который добросовестно кормил Квитку и его гостей в трудных условиях находящегося в постоянных перемещениях казачьего полка.
После первого боя
.jpg)
Первый бой как первая женщина – запоминается навсегда. Для Лейб-гвардии Павловского полка первый бой сложился удачно: одержав верх над австрийцами, взяли, пленных, трофеи, сами потеряли по меркам той по меркам Великой войны совсем немного. Но всё равно впервые уведенная кровь, убитые и раненые подействовали на людей. Командиру 7-й роты А. Редькину врезалось в память, как построившись, тронулись колонной от места боя. И в рядах роты, перебегая дорогу, запуталась мышь. Ни один солдат на неё не наступил, жалея животное, уступали ей дорогу. После боя цена жизни и крови воспринималась всеми по-иному.
Через год, в окопном сидении, когда от мышей в блиндажах не стало житья, этих мышей давили нещадно. И всегда, при виде раздавленных тушек, Редькину вспоминалась та, первая мышь войны.
Об уверенности и смирении
Дело было во время Турецкой войны в 1877 году. Группа военных корреспондентов разных стран (2 русских, 2 француза, 1 испанец), которую охранял военный конвой в составе 1-го (одного) казака, догоняя отряд генерала Гурко, оказалась на ничейной территории. Местность была наводнена башибузуками и бродячими турецкими отрядами. Навстречу шли болгарские беженцы, кругом горели села, в лесах непонятно кто стрелял, иногда попадались трупы. Настроение у корреспондентов было тревожное, французы уже предлагали вернуться назад. Ища хоть какого-то успокоения, корреспондент Лев Владимирович Шаховской подъехал к казаку. Стараясь казаться беспечным, спросил:
- Можешь, брат, уложить десять турок!
- А Бог знает, ваше благородие, как придется.
- А человека четыре уложишь? – настаивал корреспондент.
- Четырех-то как не уложить, а только тут никто как Бог. Бог не поможет, и с одним не справишься, а поможет, так и десять турок не страшны.
.jpg)
Фельдмаршал Светлейший Кутузов мыслил одинаково с этим казаком: «Если бы кто два, или три года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу!». На этой фразе современные ниспровергатели, среди которых стало модно в последние годы пинать старика, кучи теорий нагородили, вплоть до обвинения Кутузова в трусости, или - доказывая, что наша победа над Европой в 1812 году была случайностью. Глупцы не понимают, что в православном человеке того времени уверенность в себе и своих силах – дайте мне хоть десять Турок – всех порубаю! – совершенно органично уживалась с истинным смирением – а без Бога никуда! На том и стояли. Не падали духом при неудачах, не теряли голову от успеха.
Орднунг и Россия, или не воюйте с Русскими-2
Летом 1915 года в лесу на реке Свента, что в Литве, совершая марш, неожиданно столкнулись два конных отряда. Немецкий был представлен 1-ым Баварским уланским полком. Командир полка майор Цюрн, ведя полк по всем правилам военной науки и немецких уставов, решил сделать привал на берегу реки, на прибрежной полянке. Полк свернул с дороги и вытянулся вдоль берега в линию взводных колонн. Всем, и офицерам, и солдатам, не терпелось слезть с лошадей, но порядок есть порядок – никто не смел это сделать, ждали команды командира полка.
В это время, на другой стороне реки в лесу двигался русский конный отряд. Русских было более чем в два раза меньше – всего пара эскадронов Конной Гвардии, зато вел их целый генерал, командующий 1-й гвардейской дивизией Скоропадский, знающий, «боевой офицер». День был жаркий, и шли русские беспечно. Во главе колонны выступал сам Скоропадский, являя собой и головной дозор, и боевое охранение, и авангард. За ним беспечно ехал начальник штаба генерала, болтая с кем-то из офицеров, потом офицеры-ординарцы от полков дивизии, далее человек семь офицерских вестовых, и только потом, страшно растянувшись, страдая от жары, тащились оба эскадрона – ибо влекомые генералом шли русские не дорогой, как порядочные немцы, а какой-то лесной тропой, на которой и двум всадникам было тесно.
В какой-то момент тропа свернула к реке, выскочив из леса на прибрежную полянку, и исчезла, уткнувшись в реку. А генерал в недоумении остановился. Выныривавшие по одному из леса офицеры свиты тоже раскрывали рты. Удивляться было чему: на противоположном берегу в каких-то 400-500 шагах в образцовом порядке, радующем глаз любого кадрового кавалериста, - даже если этот кавалерист принадлежит враждебной армии, - в конном строю повзводно, лицом к русским застыл германский кавалерийский полк.
Русские офицеры схватились,… нет, не за шашки и пистолеты – за бинокли. Надо полагать от удивления и неожиданности. По уму конечно, русским следовало бы немедленно залечь. Но, похоже, генерал-майор Скоропадский полагал, что не генеральское это дело падать на пузо ввиду врага и подчинённых - не солидно для генерала. Потому остался на коне. Офицеры свиты соответственно последовали примеру начальника. С той стороны несколько стоящих перед строем офицеров точно также изучали противника в бинокли. Прошло несколько томительных секунд. Потом на немецкой стороне послышались команды и, начиная с концевого взвода, немецкая колонна повернула кругом и поэскадронно, в чинном порядке стала уходить, скрываясь в лесу. Последним развернулся и исчез головной, ближайший к русским эскадрон.
.jpg)
На берегу осталась только горстка изумленных русских офицеров. Никто ничего не мог понять. Немецкий полк, на близком расстоянии, развёрнутый по фронту мог одним залпом снести маячивших на поляне русских офицеров, а оставшиеся без руководства конногвардейцы выезжая по узкой тропе по одному, по двое на строй развернутого немецкого полка - должны были для немцев превратить бой в безопасную и веселую охоту на беспомощного противника. Вместо этого целый полк снимается и без единого выстрела уходит перед горстью русских офицеров.
Для очевидцев этот случай на многие годы так и остался непонятным военным курьезом. Но в 1960 году где-то в Баварии случайно разговорились два близких по годам ветерана, немец и русский эмигрант. Слово за слово: «Вы воевали?», «а какой род оружия?», «кавалерист», «и я кавалерист», «а полк?»… «как 1-й Баварский уланский»… «а такой эпизод помните?».
- Как же, как же, я хорошо припоминаю этот случай.
После этих слов немца русский весь обратился в слух, беседа перестала быть светской.
- Почему!... Почему мы вас тогда спугнули?
Немец удивился удивлению русского и несколько снисходительно пояснил очевидное:
.jpg)
- Мы увидели на вид молодого русского генерала, окруженного многочисленной свитой. Все – на огромнейших вороных, гнедых, караковых и рыжих конях. Мы знали, что тут против нас находится русская гвардейская кавалерия, и решили, что это её начальник со своим штабом. А раз он так открыто показывается перед нами, со всей своей громадной свитой, спокойно и долго рассматривает нас в бинокль, не пытаясь даже укрыться за деревья, то, несомненно, тут же в лесу за ним находится вся его дивизия, или её большая часть. Поэтому майор Цюрн отменил привал и приказал продолжить движение обратным порядком. Русские огня по нам не открывали и только продолжали наблюдать за нами. Наше перестроение на глазах противника прошло совершенно беспрепятственно. Русские нас не преследовали, и мы, хотя и очень усталые, прибыли в срок на присоединение к нашей дивизии.
О способах борьбы с болтунами
На Руси, как известно, каждый интеллигентный человек искренне уверен, что чиновники и бюрократы ничего знать не знают и уметь не умеют. В отличие от них, передовых и умных. Году в 1891 данную уверенность всем сердцем разделял мещанин М. из города Нижнего Новгорода. Разделял настолько, что на митинге передовых людей высказал с трибуны, что врачи хоронят живых людей, а власти им потворствуют. Дело было во время эпидемии холеры, которая в том тяжелом для России году бушевала в Поволжье. Борясь с распространением заразы, трупы умерших в холерных конвульсиях хоронили немедленно. Наступавшее трупное окоченение выпрямляло мускулы сведенных судорогами рук и ног покойных, и вот от кладбищенских служителей и могильщиков среди населения поползли соответствующие слухи. Вред от таких сказок был огромен – народ боялся больниц, разбегался, что способствовало распространению эпидемии. Местами начались холерные бунты, доходило до убийства врачей.
На беду выступавшего среди слушателей на митинге находился… Нижегородский губернатор Николай Михайлович Баранов. Отличался он странностями, в числе прочих причуд была у него такая – загримированным, исчезал он на несколько дней из губернаторского дворца, ходил по городу и губернии, узнавал, что и как на подведомственной территории. Пресса даже окрестила его Гарун-аль-Рашид. А вообще человек был достойный, известный всей России, храбрый моряк, отличившийся в Русско-Турецкой войне, изобретатель и конструктор – винтовка его изобретения так и вошла в историю как винтовка Баранова. Не боялся Баранов выступать и против сильных мира сего: в своё время жестко критиковал Великого князя Константина Константиновича, своего августейшего и прямого начальника по морскому ведомству. Критиковал по делу, за что угодил под суд. Храброму и прямому моряку благоволил Александр III, что позволяло ему и во время губернаторства вести себя дерзко и независимо от начальства, вплоть до того, что распоряжения из министерства отсылались им назад нераспечатанными, а губернией правил он по-своему, - скоро и круто.
.jpg)
Уже в день митинга в городе развесили приказ губернатора: «Мещанин М. заметил, что из одного холерного госпиталя был вынесен и предан погребению больной, подававший признаки жизни. Назначаю мещанина М. помощником смотрителя указанного холерного госпиталя и вменяю ему в обязанность наблюдать за тем, что б такие случаи впредь не повторялись».
Мещанина ночью подняли с постели и, несмотря на все его протесты, плачь и причитания домашних, отвезли в госпиталь и приставили наблюдать за умирающими холерными больными. Эффект был незамедлителен: вздорные слухи в городе сошли на нет.
О способах убеждения
В Черниговской губернии был известен большой и богатый посад Клинцы. И хотя считался он просто посадом, но был больше всех окрестных уездных городов: имел девять больших суконных фабрик, прядильную, несколько кожевенных суконных заводов, отделение государственного банка, много магазинов, складов и всяких предприятий. Собственного пролетариата в посаде не было: на предприятиях трудились крестьяне окрестных сёл. Большая часть клинцовских обывателей были старообрядцами – людьми приверженными старине и скупыми на всякие новшества. Панически боясь нововведений, местные жители враждебно отнеслись к постройке железнодорожной линии Брянск–Гомель, прошедшей мимо Клинцов. Местная Дума отказалась предоставить место для станции. На все уговоры строителей и начальства, «отцы города» отвечали, что железная дорога им не нужна, - дескать, она разорит местных купцов, промышлявших извозом и зарабатывавших большие деньги доставкой на фабрики тюков с шерстью и вывозом из посада готовой продукции.
.jpg)
Что бы образумить упрямцев, прибегли к хитрости. В двух верстах от Клинцов находилось селение Дурни. Строители договорились с крестьянами Дурней и объявили, что станцию построят около селения и назовут Клинцовские Дурни. Расчет оказался верным. Боясь осрамиться на всю Россию, клинцовцы даром уступили дороге необходимый участок. Построенная станция получила название Клинцы. Так и называется до сих пор.
Уступи дорогу
Если кто думает, что правила дорожного движения появились только после изобретения автомобиля, то он ошибается. Конфликты между участниками дорожного движения случались и во времена Сивок-бурок. Из травматов друг в друга правда не палили: наверное из-за того, что травматов тогда не было, а из дуэльного - себе дороже. Да и воспитаны люди были получше нашего.
В дворцовых парках Петергофа на беговых дорожках офицеры местного гарнизона были привычной картиной. Как-то известный спортсмен штаб-ротмистр конноегерского полка Александр Карлович Петржкевич готовил своего коня к стоверстному пробегу. Идя полевым галопом, на очередном повороте навстречу ему выехали два всадника. К возмущению ротмистра всадники не сворачивали налево, как то полагалось при встрече с идущими «широкими аллюрами».
- Повод влево, повод влево! – гневно закричал Петржкевич.
Только тогда всадники послушно взяли влево.
Промчавшись мимо, Петржкевич еще сделал замечание, крикнув: «Разве вы не знаете, что нужно брать повод влево».
Занятый исключительно своим конем и секундомером, ротмистр даже не заметил, кого отругал.
.jpg)
Через час, на обеде в полковом собрании, полковой адъютант Лайминг обратился к Петржкевичу:
- Знаешь ли, Петрун, кому ты сегодня сделал замечание в парке?
- Кажется, какому-то пехотному офицеру. Эта «пехотная душа», видя, что я иду полевым галопом, не свернул влево. Я чуть не сшиб его.
- Мне звонил дежурный флигель-адъютант, - усмехнулся Лайминг. – Государь приказал передать его извинения тому офицеру Конногренадерского полка, которого он встретил на верховой дорожке и которому не уступил дорогу.
Петржкевич среди офицеров полка был известен как скромнейший человек, всецело отдававшийся службе и спорту. Несколько смутившись, он всё же спокойно отнесся к происшествию. А вот сидевший за столом командир полка – генерал Рооп запаниковал, обрушившись на ротмистра с упрёками. Владимир Христофорович Рооп был карьерист и мечтал о свитских аксельбантах. Теперь он вообразил, что Петржкевич погубил его карьеру и что отныне в государеву свиту ему не попасть.
Волновался генерал напрасно. Через месяц, на полковом празднике, Николай II подошел к Петржкевичу и долго разговаривал с ним, интересуясь его спортивными успехами. В тот же день Рооп получил долгожданное назначение в свиту.
В ноябре 1914 года, ведя эскадрон в атаку, ротмистр Петржкевич был смертельно ранен и через три дня умер в варшавском госпитале. Генерал Рооп в войну достойно командовал дивизией и корпусом, скончался в эмиграции в Париже в 1929 году.
Проучили
Начальник придворно-конюшенной части Министерства двора генерал-адъютант Грюнвальд симпатиями в петербургском обществе не пользовался. Высокомерный, надутый остзейский немец плохо относился к русским офицерам, демонстративно игнорируя традиции гвардейского корпуса. В гвардии, например, было принято, что каждый приходивший в общественное место, где находились офицеры, обходил присутствующих, здороваясь с ними. Это правило неукоснительно соблюдали как младшие офицеры, так и генералы. Грюнвальд, носивший форму гвардейского полка, не только считал ниже своего достоинства подавать руку офицерам, но даже не отвечал на их приветствия.
.jpg)
На свою беду Грюнвальд был завсегдатаем членской трибуны Петербургского ипподрома. Публика оной состояла из представителей высшего общества – великосветских дам, сановников, дипломатов и генералов. Были там и офицеры гвардейцы. Они и решили проучить зарвавшегося немца.
На очередную скачку записали молодую лошадь по имени … Грюнвальд. Лошадка слабенькая, не имела ни малейшего шанса на выигрыш. Тем не менее, все офицеры поставили на неё. Начался забег. Генерал Грюнвальд сидел как всегда надутый, игнорируя соседей; лошадка его имени плелась в хвосте.
- Этот негодяй Грюнвальд не выгребает, - раздался голос одного офицера.
- Скотина Грюнвальд, - откликнулся другой.
- Разве можно было играть на такую падаль, как Грюнвальд? – возмущался третий.
И со всех сторон раздались еще более хлесткие эпитеты по адресу бедной лошади.
Генерал Грюнвальд сидел весь багровый от гнева, но придраться к офицерам не мог. Кругом смеялись дамы и штатские; веселилась вся трибуна. Не дождавшись конца забега, генерал удалился. Проигравшие ничуть не жалели о проигранных деньгах, и продолжили вечер в ресторане, где пили за лошадку Грюнвальд.
Что нужно для объяснения в любви
Офицеру лейб-гвардии конноегерского полка Вороновичу было 27 лет. С Ольгой Владимировной Вонлярской они были знакомы почти полтора года. Будучи страстными любителями лошадей, оба увлекались конными прогулками. Однажды, по вине наездницы лошадь Ольги Владимировны понесла. На беду на дороге был крутой поворот, а на самом повороте мост, и отличная скаковая лошадь, приняв перила моста за барьер, со всего хода перескочила через них и вместе с наездницей упала в реку. К счастью и девушка и лошадь отделались синяками и легкими ушибами. Это если не считать намокшую и порванную амазонку.
Когда спешивший на помощь Воронович подбежал к лежавшей в воде неосторожной наезднице, то, как вспоминал он полвека спустя: «Мое испуганное и взволнованное лицо выдало чувства, которое я уже давно питал к милой барышне. Мы объяснились и вернулись на дачу женихом и невестой».
.jpg)
О времена, о нравы!
В 1952 году вспоминания всё это Воронович написал: «… счастье, которым я пользуюсь уже 40 лет и которое за это долгое время никогда и ничем не омрачалось…».
Впрочем, что еще можно было ждать от людей, которые в школах учились раздельно. Наивные в некоторых отношениях были люди, не то, что мы. В годы нашей молодости девушка, которая отдавалась только на втором свидании, казалась таких строгих правил! Сейчас вот в телевизоре в очередном американском сериале говорят о каком-то «правиле третьего свидания»… Вот только с разводами и рождаемостью у наивных предков отчего-то было много лучше.
Источники:
-
А. В. Квитка «Дневник Забайкальского казачьего офицера
-
А. Редькин «Павловцы в Великую войну»
-
Л. В.Шаховской «С театра войны 1877-1878. Два похода на Балканы»
-
В. Кочубей «Загадочная встреча на реке Свейте (из лично пережитого)»
-
Н. В. Воронович «Вечерний звон»
.jpg)
.jpg)
.jpg)