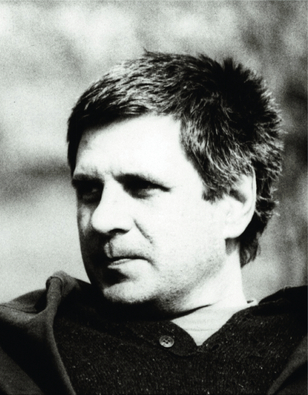- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 14
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 14
Вадим Приголовкин 27.06.2016
Вадим Приголовкин 27.06.2016
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 14
Исторические мозаики
Наша европейская родня
Сопровождая Великого князя Михаила, Анатолий Александрович Мордвинов оказался гостем в Букингемском дворце у английского короля и королевы Александры, сестры Марии Федоровны, матери Николая II. Как было заведено имена всех гостей, в том числе и лиц свиты, с упоминанием чина и должности, были опубликованы в газетах. Очень скоро Мордвинова пригласили к телефону. Неизвестный англичанин спрашивал, не приходится ли он родственником тому известному русскому адмиралу Мордвинову, который более ста лет назад, при Екатерине Великой был женат на англичанке мисс Коблей.
.jpg)
Мордвинов подтвердил, что этот адмирал действительно приходится ему родственником по боковой линии и поинтересовался, отчего этот вопрос так интересует неизвестного собеседника.
- Очень интересует, - отвечал англичанин, - потому что в таком случае я прихожусь тоже вам родственником, и довольно близким. Я Бойд Карпентер, сын епископа Риппонского, и моя жена является прямым потомком сестры мисс Коблей. Ваша фамилия очень почитается в нашем доме, и мы с женой были рады узнать из газет, что один из Мордвиновых приехал к нам в Англию.
Договорились о взаимных визитах. Новые родственники оказались молодыми, красивыми, общительными и состоятельными людьми. Мордвинов прекрасно провел у них время: расстались почти друзьями, договорившись писать.
После революции судьба забросила жену Мордвинова (кстати, англичанку, но родившуюся и выросшую в России: её отец свыше 20 лет до самой смерти был воспитателем Александра III и Николая II) в Англию. В поисках заработка Ольга Карловна вспомнила о существовании милого английского родственника. Написала ему письмо, с просьбой о содействии в отыскании работы художника-портретиста, - она была талантливой портретисткой, и эта работа обеспечивала семью в эмиграции. Но, как отметил Мордвинов «родственное имя жены уже не было напечатано тогда в придворной хронике» - письмо осталось без ответа.
Правда, к чести англичан, эти родственники оказались единственными, оставшимися глухими к просьбе о содействии.

Были люди в наше время
На столетнем юбилее Отечественной войны 1812 года в Москве полковник Мордвинов лично разговаривал с восемью старыми ветеранами, простыми людьми, которые лично видели Наполеона, участвовали в Бородинской битве, вспоминали пожар Москвы. Особенно запомнился полковнику один из них, которому в 1812 году было лет 16: он описывал Наполеона наивными, но довольно меткими штрихами.
А в 1910 году на открытии памятника Скобелеву в Москве, он встретился с одним стариком, простым солдатом, которому было не менее 130 лет. У этого старика по приказу губернатора даже проверили документы – всё оказалось верно. Старик рассказывал, что его мать скончалась в 117 лет, сохранив половину зубов и хорошую память. Несмотря на годы, старик выдержал на ногах всю длинную церемонию и затем еще бодро обходил с кружкой присутствующих, собирая деньги на построение храма в родном селе.
То есть Мордвинов общался с человеком, помнившим еще Екатерину Великую и общавшимся с людьми, видевшими самого Петра Великого.
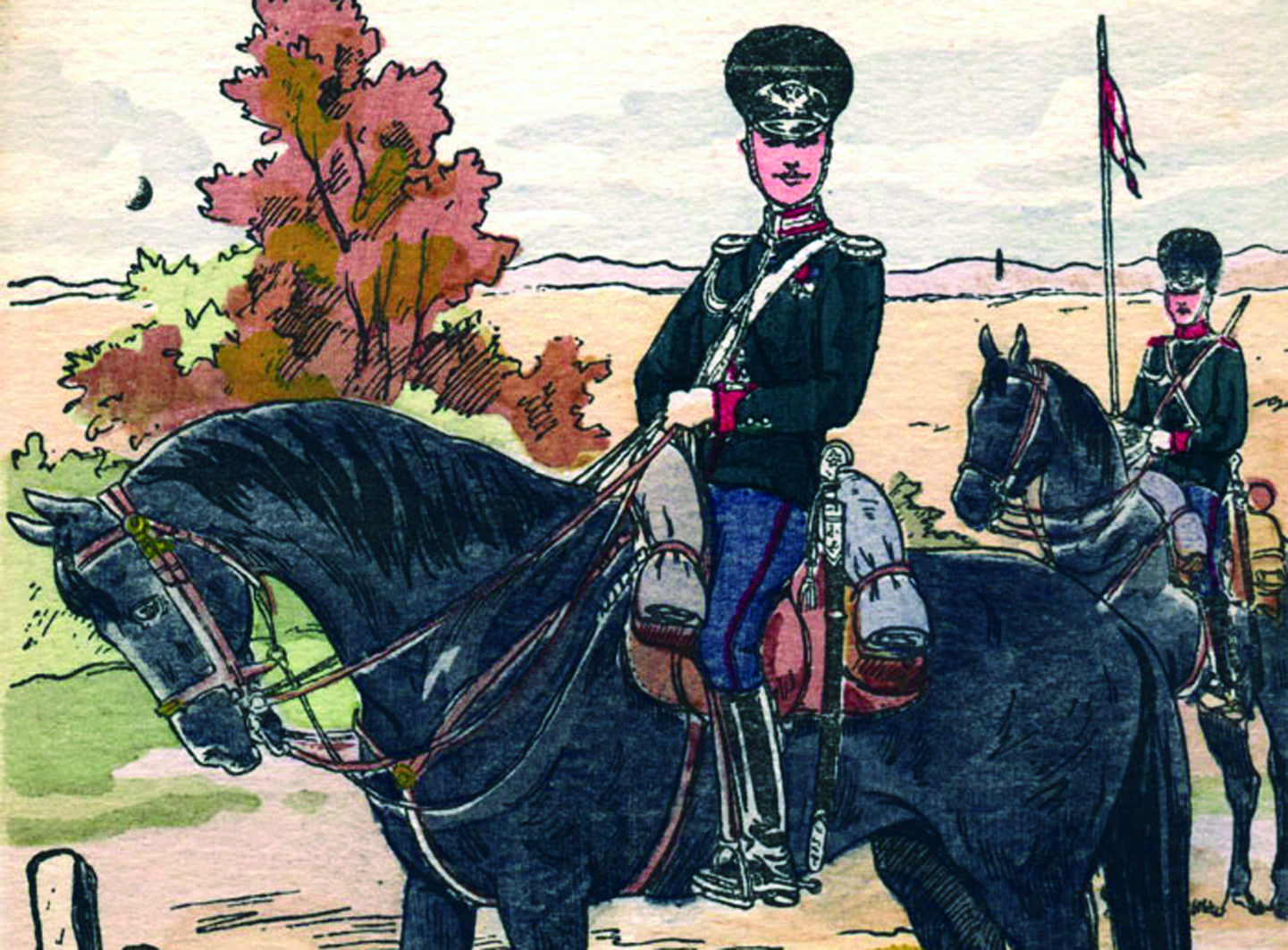
Русская императрица и датская принцесса, персидский принц и русский солдат
Казалось бы, что общего между всеми этими людьми? Очень просто - русская армия объединяла их всех.
46-й драгунский Переяславский полк квартировал в польском городе Плоцке, что на Висле в сотне верст от Варшавы. Полк был переведен в Польшу с Кавказа, потому среди его офицеров было много грузин, армян и татар. Командовал полком настоящий персидский принц Шафи-Хан, человек по воспоминаниям сослуживцев не очень смышлёный, но добродушный и гостеприимный. Шашлык, плов, кахетинское – всегда было к услугам гостей полковой семьи, как и шербет, собственноручно изготовлявшейся командиром полка.
Шафи-Хан особенно гордился тем, что командует полком, шефом которого был сам император Александр III, а после его смерти вдовствующая государыня Александра Федоровна. Ежегодно он ездил в Гатчину, согласно традиции представлялся шефу полка. Возвращаясь, принц устраивал настоящий пир для своих офицеров, на котором рассказывал, как был принят императрицей и какие вёл с ней разговоры. Офицеры, правда, не совсем понимали, какой оживленный разговор мог быть между плохо говорившей по-русски Марией Федоровной и ещё хуже говорившим по-русски и совершенно не владевшим другими иностранными языками принцем, но не спорили.
Однажды в полку произошло чрезвычайное происшествие. Из-за неисправной печки угорел караул, в том числе начальник караула и разводящий. А по уставам того времени часового у знамени и денежного ящика могли сменить только начальник караула, разводящий, или личный приказ императора. Часовой переяславцев уставы чтил, и сменяться отказался наотрез, оставаясь на посту более суток. Время шло, ни разводящий, ни начкар в себя не приходили. Пришлось послать телеграмму в Петербург, самому военному министру. Тот доложил императору. Николай II ответил высочайшей телеграммой с разрешением часовому сойти с поста.
Шариф-Хан после этого случая совершенно возгордился и любил уверять окружающих, что он часто переписывается телеграммами «с самим царем».
Времена меняются
Следующий сюжет навеян августовскими, прошлого 15-го года сообщениями в СМИ: в Гохране пропали бриллианты; то ли украли сами сотрудники, то ли подменили ещё раньше. Идёт расследование. А современный Гохран - структура наисерьёзнейшая: огромный штат, десятки степеней дорогостоящей защиты. И всё равно не уберегли.
Сравним.

Это были времена до постройки Сибирской железной дороги, когда Сибирь была также далеко, как Луна от Земли. Путешествие из европейской России на почтовых, при скорой езде, занимало до 100 дней и ночей. А на перекладных уходило до года, ссыльные вообще шли пешком. Соответственно стоила и перевозка грузов. Богатейшие Сибирские серебряные рудники, например, Кутомарский в Нерчинско-Заводском округе, не разрабатывались только потому, что серебро не окупало доставки из Забайкалья на монетный двор в Петербург. А вот золото выдерживало, и из Сибирских рудников веками стекалось в столицу: золото сосредоточивали в горном управлении в Иркутске, оттуда караваном отправлялось на монетный двор в Петербург.
Везли золото в «кошёвках»; это банальные сани-розвальни. Везли просто. Золото в слитках, по полпуда каждый, складывалось в грубо сколоченные из толстых досок ящики, окованные железом. В таком ящике укладывалось 25-30 пудов золота; ящик наглухо привинчивался ко дну саней. Этот ящик во время езды служил перевозчикам готовым столом для карточной игры. Резались в винт, днём и ночью напролёт, благодаря фонарику, прикреплённому к стенке кошевы; причём игроки до кончика носа оставались завёрнутыми в шубах и дохах с накрепко примёрзшими к ним усами и бородами.
В состав каравана входило обычно о 10-15 саней; то есть всего 300-360 пудов, или 4800-5760 килограмм золота. И охраняли такое богатство целое «войско», аж из 4-6 казаков.
Как писал современник и участник таких перевозок: «Остаётся только удивляться как патриархальности перевозки ценных сокровищ, так и похвальному благонравию сибирских «чалдонов» (каторжных-беглых, бродяг), придорожных ссыльнопоселенцев или просто изобилующих в Сибири охотников до лёгкой наживы, которые, кажется, ни разу не учиняли нападений на такие караваны с золотом. А ведь такой караван представлял собою ценность в 4-5 миллионов рублей. Одна только повозка представляла собою ценность в полмиллиона. Караван постоянно и неизбежно разрывался, растягивался на протяжении 1-2 вёрст. Случится поломка в какой-нибудь кошеве, и весь обоз останавливается: не только конвой, но и все ямщики собираются на выручку застрявшей повозки; а тем временем остальные сани с золотом остаются рассеянными и брошенными в тайге и на дороге, под охраной Николая Угодника. Что стоило бы кому-нибудь угнать хоть одну повозку, или сбить и спрятать в снегу ящик с золотом, которым завладеет потом по миновании каравана».
Подчеркнём – речь о тех миллионах, позапрошлого века! Сколько это на сегодняшний день - страшно представить!
Вывод: меняются времена, меняется цена денег, меняются и люди.
Англичане козла ласкали, но с лукавым видом
Эпизод Крымской войны, когда в июле 1854 года инвалидная команда и монахи Соловецкого монастыря отбили нападение английской эскадры, общеизвестен. А в следующем году англичане приплывали снова. Напасть на монастырь в этот раз они не решились, видимо не желая повторения прошлогоднего позора, но на соседние незащищенные острова высаживались, в основном с целью грабежа, для пополнения корабельного рациона. Во время одной такой высадки и произошла следующая история, приобретшая в свете сегодняшних отношений с нашими англосаксонскими вероятными друзьями характер почти притчи.

Остров Большой Заяцкий известен церковью Св. Андрея Первозванного. По преданию основал её сам Пётр Великий. В 1855 году весь «гарнизон» Заяцкого острова составляли два рясофорных послушника из отставных солдат.
Всего на Заяцком острове в том году англичане высаживались трижды. После каждой такой высадки Архимандрит ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря Александр со слов этих полушников исправно докладывал архангельскому военному генерал-губернатору адмиралу Хрущову подробности.
Высадка 16-17 июня 1855 года. На остров выходило множество англичан – большей частью офицеров; между ними один только знал по-русски. С одним из наших старцев обращались ласково, а другой, из чухон, недавно принявший веру православную, говорить не умеет хорошо по-русски и глух; этого они не трогали.
Спрашивали: тот ли у вас Архимандрит, то в прошлый год был? Сколько в монастыре войск и орудий? – и когда старец показал малое количество, то они, улыбаясь, говорили ему, что им всё известно, сколько чего в монастыре есть.
На острове было 12 баранов и один козел; баранов всех англичане перестреляли и взяли на корабль, а козла пожалели за ласковое с ними обращение, но хотели тоже взять.
Старец Мемнон осмелился им сказать:
- Как вам не грех нападать на святыню? Вам слава будет, когда вы города будите брать, а не монастырь… Я и сам солдат был и в Париже был и города брал, а церквей мы не касались…
Переводчик всем офицерам рассказал замечание старца. Все они молчали. Только переводчик сказал старцу:
- Мне жаль вас. Россия добрая, а я у вас по городам многим бывал и в Киеве в пещерах был. Что ж нам делать?.. Мы действуем, как нам приказано.
Высадка 12 августа. Старец Мемнон, прибывши к Архимандриту, объявил, что бывшие ныне на острове англичане не те, что приходили прежде: между ними было один только прежний офицер, знающий по-русски. Англичане стреляли на острове зайцев и птиц. Особо в своем донесении Архимандрит отметил, что находящегося на Заяцком острове козла англичане ласкали, но с лукавым видом.
17-19 августа состоялась третья высадка с прибывших двух пароходов. Старец Мемнон сообщил, что один из этих пароходов был тот самый, который похитил в прошлый раз монастырских баранов, что матросы этого парохода – грабители, нахалы и грубияны; издевались над старцем, разломали дверь в кладовую и забрали из неё все съестные припасы. Переводчик, бывший в первый раз в добром расположении, теперь был весьма мрачен и перед старцем бранил по-русски своё начальство. Козел, на которого англичане, казалось, имели покушение, скрылся между каменьями на горе и пролежал там более суток, пока не ушли англичане.
Как в плен сдавались
Крымская война, первая оборона Севастополя, Малахов курган. Июня 1855 года французы пошли на решающий штурм. В критические минуты боя, когда волны атакующих французов ворвались в укрепление, и между орудий завязалась последняя, для русских уже безнадежная отчаянная рукопашная, комендант Малахова кургана Карпенко увидел своего товарища лейтенанта Лазарева. Разговоры разговаривать времени не было: пробегая площадку, раненый в живот Лазарев молча, поклонился коменданту, прощаясь, как подумали оба, навсегда. Карпова ждала рукопашная и минимальные шансы уцелеть, а Лазарев мог с чистой совестью уйти в тыл на перевязку. Вышло по-другому. Через несколько часов оба встретились в плену, делились пережитым.

Карпова в свалке ударили по голове, он даже не понял чем. Потерявшего сознание офицера подхватили три солдата Модлинского полка и отнесли в блиндаж. Двое из них были смертельно ранены, но очнувшийся Карпов застал всех троих стреляющими по неприятелю. Двое, ослабев, вскоре уже не смогли держать оружие, и только один долго посылал французам пулю за пулей. Карпов из блиндажа слышал крики «ура!», которые, то приближались, то удалялись и затихали, то раздавались с новой силой. Вдруг блиндаж загорелся. Карпов выскочил и был схвачен шестью французами. Один замахнулся на него тесаком. Карпов молча опустил голову, встречая смерть. Но что-то закричал французский офицер, и его объявили пленным, повели в тыл. Проходя мимо батареи, он заметил, что убитых французов вокруг лежит больше, чем русских. Только подле орудий рядами покоились русские, а французов почти не было.
Пленных офицеров, морских и сухопутных, в главной квартире французского генерала Боске собралось человек 16. Русские с гордостью отметили, что это всё, что союзники смогли захватить на бастионах Севастополя за 11 месяцев борьбы. Все были ранены, но по-настоящему опасно только Лазарев, которому пуля прошила живот навылет. Лейтенант остался в живых почти чудом. Простившись с Карповым, он отправился в тыл и был уже у самой горжи, когда силы его окончательно оставили. Наши отступали, и французы были уже в нескольких шагах. Лазарев обратился к шедшему со всеми инженер-поручику Орде:
- Проводи меня, пожалуйста, в спокойное место!..
Такового конечно на кургане не было, а самому Орде оставалось сделать пять шагов, чтобы выйдя за курган, он мог считать себя в безопасности, но просьба раненого товарища перевесила все иные соображения. Взяв раненого за руку, Орда отвел его в ближайший блиндаж, уложил на койку и перевязал рану носовым платком. Кроме них в блиндаже оказались один поручик-сапёр и четыре солдата, и ещё столько же тяжелораненых. Здоровые, конечно, хотели уйти, но высунувшись, они увидели, что Малахов курган занят неприятелем: кругом были одни французы, наших не было видно. Притаившись, они просидели несколько часов. Перестрелка гремела не умолкая. Наши пытались контратаковать.
Солдаты стали просить у офицеров разрешения пострелять из блиндажа. Те махнули рукой, что всё равно. Лежавшие против входа арабы были не лучшим соседством; заметь они русских, и пощады бы не было. К счастью, арабы не замечали, откуда стреляют: то один, то другой, хватались за руку, или ногу, или затихали не пикнув. Так русские стреляли более часа.

Всё разрешилось почти случайно. В блиндаж вдруг ввались три зуава, будто их кто втолкнул. Наши солдаты одного насадили на штыки, другого обезоружили и связали, но третий убежал и дал знать своим. Блиндаж окружили, французский офицер спросил, есть ли офицер в блиндаже. Орду вышел наружу.
- Вы сдаётесь? – спросил француз.
И вот тут, читатель, внимание, для автора, признаюсь, не совсем понятный момент.
Орду повернулся к солдатам и спросил, хотят ли они сдаться. Солдаты согласились и положили оружие.
Почему офицер «спрашивает» солдат, почему не приказывает? Почему вообще требуется «согласие» солдат? И сами солдаты, похоже, воспринимают такой стиль отношений с офицером как должное! Признаться, автору, как воспитаннику советского военного училища все эти аспекты взаимоотношений наших военных предков не совсем понятны. Комментировать не берусь.
Французы тотчас позаботились о русских раненых, а здоровых присоединили к остальным пленным, где Лазарев и встретился с Карповым. Правда, в тот же день, Лазарева отвезли в госпиталь, где он провел несколько месяцев, но в итоге оправился.

О придворной дипломатии
Как известно, лучшие воспитанники Пажеского Его Императорского Величества корпуса во время учебы исполняли обязанности пажей при высочайших особах. Федор Константинович Гершельман, обрусевший немец и сын генерала состоял при Великой Княгине Александре Петровне, жене Николая Николаевича, будущего Главнокомандующего русской армии в Турецкую войну 1877-1878 гг. Как-то при разъезде из дворца Гершельман проводил свою княгиню вниз, в подъезд, а Великий Князь оставался ещё наверху, беседуя с фрейлинами. Александра Петровна, женщина вообще-то добрая и простая, временами в обращении была резка и эксцентрична. Недовольная задержкой, она велела пажу пойти и сказать Великому Князю, что «она не намерена его ждать, и пусть он возвращается домой, как хочет». Взбежав вверх, неглупый паж доложил Великому Князю: «Её Высочество изволит ждать внизу», на что Николай Николаевич ответил: «Ну, скажи моей бабе, что может и подождать». Юноша вернулся к княгине: «Его Высочество сейчас изволит спускаться».
Увы, столь грамотный в делах придворных, Гершельман в постреволюционное время допустил роковую ошибку. В 1918 году отставной 64-летний, но ещё крепкий генерал проживал в глубинке, в деревне, и глядишь, пересидел бы революционное лихолетье, но имел глупость напомнить о себе, отписав в Главный штаб Красной армии с простодушной просьбой выплатить ему пенсию, как бывшему члену Военного совета. Скоро за стариком приехали. Где и когда он погиб неизвестно, сведений нет. В биографиях известного русского военного деятеля и писателя Ф. К. Гершельмана после даты смерти (1918) ставят знак вопроса.
Подчинённый для мира, подчинённый для войны
Упомянутый Великий Князь Николай Николаевич в 1875 году повздорил со своим подчинённым, начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии Иосифом Васильевичем Гурко. Столкновение вышло нешуточным, генерал покинул службу и уехал в своё имение. Карьера была кончена.
Прошло два года, началась Турецкая война. Назначенный главнокомандующим, Николай Николаевич просил Императора о назначении Гурко в действующую армию. Александр II удивился:

- Ведь он же тебя дураком обозвал.
- Ну, это было давно, - отвечал князь, - а теперь война, и другого начальника передовой конницы я не вижу.
- Дело твоё, - решил Государь, - пусть будет по-твоему.
На той войне И. В. Гурко оказался одним из лучших наших полководцев, если не лучшим, потом долгие годы командовал Русской гвардией и Варшавским военным округом, важнейшим в Империи. Стал фельдмаршалом.
Источники
-
А. А. Мордвинов «Из пережитого»
-
Н. В. Воронович «Вечерний звон»
-
Грулев «Записки генерала-еврея»
-
В. И. Колчак «Война и плен»
-
Ф. К. Гершельман «Воспоминания прожитого»
-
Д. И. Гурко «Воспоминания генерала»