- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 21
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 21
Вадим Приголовкин 20.01.2017
Вадим Приголовкин 20.01.2017
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 21
Исторические мозаики
О жадности и благодарности
Весной 1891 года Москва готовилась открыть Среднеазиатскую выставку. Мероприятие обещало быть грандиозным. Средняя Азия сравнительно недавно вошла в состав Империи, и выставка должна была не только продемонстрировать зримые плоды присоединения, но и придать новый импульс торгово-экономическим отношениям метрополии и Туркестана.
Выставка проходила в залах Российского Исторического музея, что уже само по себе характеризует её уровень, и её почетным председателем должен был быть Великий князь Сергей Александрович, буквально несколькими днями до её открытия занявший пост генерал-губернатора Москвы. Для него это был первый официальный выход в новой должности.
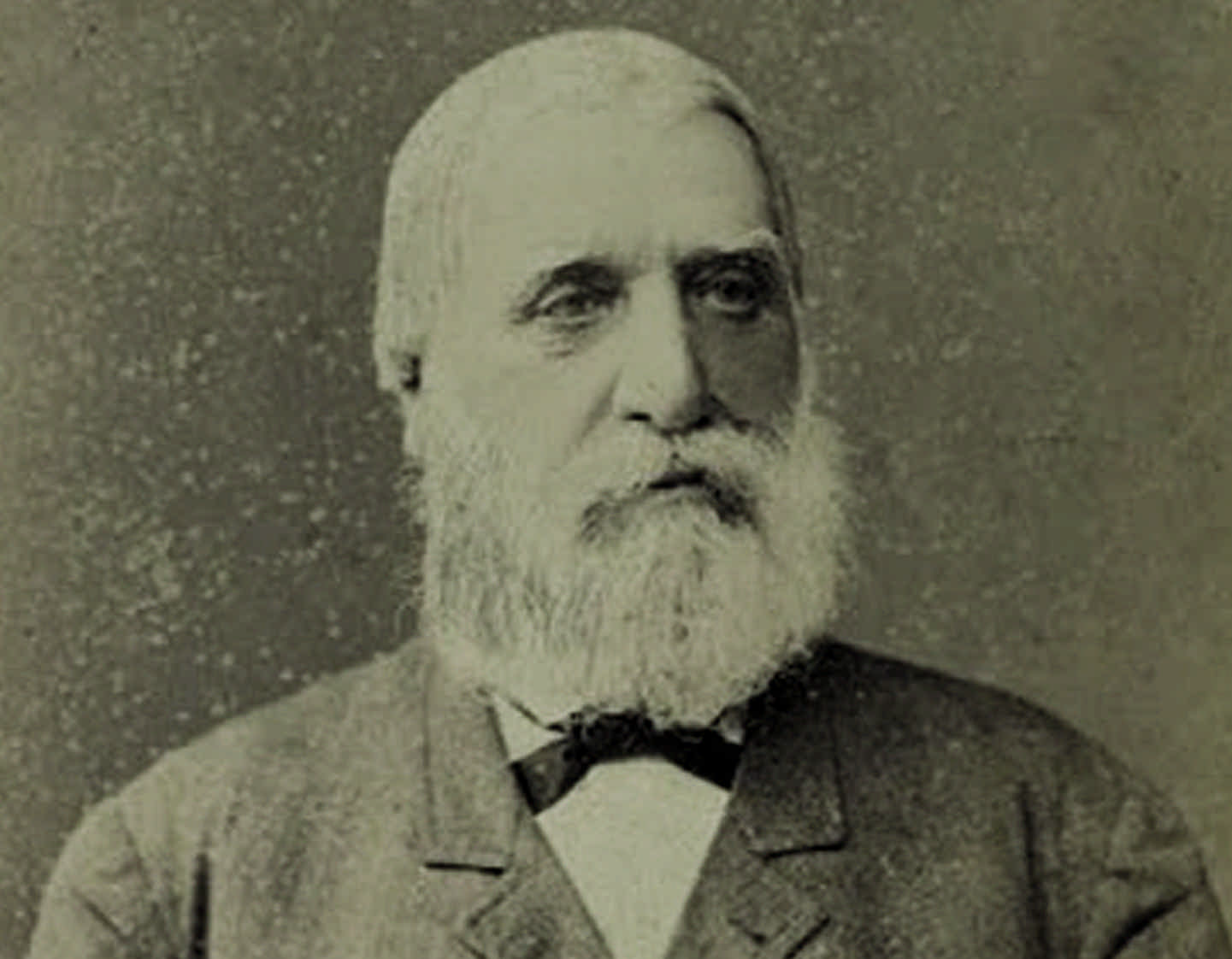
Слух о том, что на открытии будет Великий князь, вызвал небывалый ажиотаж среди московской знати и крупного купечества. В Выставочный комитет посыпались со всех сторон просьбы о получении билета на право входа в день открытия. Многие изъявили желание принять участие в качестве учредителей выставки, но когда к ним обратились с просьбой внести установленную небольшую сумму членского взноса, нашлись люди, которые под разными предлогами отказались это сделать. Самое странное, что это были известные миллионеры, тратившие на жизнь сотни тысяч ежегодно: Дмитрий Родионович Востряков, Николай Александрович Лукутин и Николай Александрович Найдёнов. Курьезность ситуации состояла в том, что женами всех троих были сестры Клавдия, Любовь и Александра Герасимовны Хлудовы, и именно капиталы жён во многом дали состояние всем троим, пробившимся из низов своим трудом. Вычеркнутые из учредителей попасть на открытие выставки не могли. Вся Москва знала, что сестрички, страстно желавшие попасть на данное мероприятие, где будет присутствовать Великий князь, устроили хорошую головомойку своим мужьям за мелочность. Сконфуженные, они приехали в комитет, прося принять их обратно. Их приняли, но за глупость взяли с каждого гораздо больше, чем обычно.

Выставка в Историческом музее работала с мая по ноябрь. Одновременно на Ходынском поле проходила Французская торгово-промышленная и художественная выставка, в которой приняли участие 2000 предпринимателей и 700 деятелей искусств из Франции. Обе выставки в том же году посетил император Александр III с женой. Вначале осмотрел французскую, потом приехал в Исторический музей.
Обходя залы, Государь разговаривал с некоторыми участниками и посетителями выставки. Он подошел к фабриканту Фёдору Алексеевичу Разоренову, красивому седому старику, стоявшему в большом смущении, сложив руки на животе. Государь что-то спросил у него, Разоренов, предварительно покрякав по своей привычке, ответил. Старик был неимоверно счастлив этой беседой, потом много лет вспоминал о ней. По своей застенчивости Разоренов не хотел идти на выставку, но его не без труда убедил пойти Варенцов, бывший членом Выставочного комитета. На этом основании Фёдор Алексеевич посчитал Варенцова отчасти виновником беседы с Государем и решил в его пользу один давний между ними спор по расчетам за хлопок, уплатив без остатку спорную сумму - несколько тысяч рублей. Уплатил со словами: «Хотя я не согласен с твоими расчётом, но за доставленную возможность говорить с царём готов сделать по-твоему!». При всей расчётливости и скупости старика это был жест, достаточно показывающий, насколько высоко он оценил своё удовольствие.
Государь же увиденным остался доволен; прощаясь, благодарил комитет за устройство выставки: «Вот эта – действительно выставка. А французская – базар!».
Выставка принесла немалый доход, поступивший в Императорское Техническое училище на стипендии неимущим студентам. Ныне это Московский государственный технический университет имени известного революционера товарища Баумана.
Русским барином
В январе 1874 года, в царствование императора Александра II, выдавали замуж его дочь великую княгиню Марию Александровну. От англицкой династии на торжества в Россию прибыл принц Валлийский. К почётному гостю приставили кавалергарда графа Орлова-Давыдова Анатолия Владимировича. В Москве как-то заехали к Сапожникову, известному мануфактурщику, смотрели различные парчи. Особенно принцу понравился отрез золотой парчи, который он облюбовал для своего курительного кабинета. Назвали цену – 50 рублей аршин. Принц переменился в лице и взял один аршин, чтобы обить банкетку. Понятное дело: одна банкетка – это не четыре стены.
После торжеств Орлов сопровождал принца до границы. Прощались в Вержблово, на границе с Пруссией. Принц в сердечных выражениях благодарил графа за любезное исполнение при нём службы за время пребывания в России:
- Вы знаете, - сказал принц, - в Англии не принято, как в других странах, давать ордена, но позвольте на память вам что-нибудь оставить в знак моей сердечной признательности.
Знаком признательности стали две хрустальные запонки, которые английский принц достал из рукавов и поднес Орлову.
- Я очень тронут, - отвечал Анатолий Владимирович, - но позвольте и мне, ваше высочество, по русскому обычаю отдариться и поднести вам для вашего кабинета понравившийся вам в Москве кусок материи.
Немедля в вагон внесли ту самую парчу ценою не менее 3 тысяч.

Когда Орлов-Давыдов рапортовал императору Александру II о проводах принца, то должен был и этот эпизод доложить. Государь усмехнулся: «Молодец, русским барином поступил!».
Русский барин Орлов-Давыдов отличался широтой души. В 1882 году он пожертвовал 5000 на учреждение капитала своего имени в Кавалергардском полку для ежегодной выдачи трём унтер-офицерам сверхсрочной службы по 83 рубля каждому. В начале войны с Японией (было тогда графу 68 лет) отдал на Красный Крест 1 миллион рублей. Во всех имениях графа построены были церкви и в большинстве – школы и больницы. В имении «Отрада» Московской губернии при фамильной усыпальнице существовало основанное ещё в 1852 году благотворительное заведение с больницей, богадельней и общиной сестёр милосердия из крестьянок.
Как Россия стала великой железнодорожной державой
Первую настоящую русскую железную дорогу Петербург-Москва строили восемь с половиной лет, стоила она баснословно дорого - свыше 70-ти миллионов. Это при том, что весь годовой бюджет страны в год начала строительства составлял 187 миллионов. Не удивительно, что решиться на новое железнодорожное строительство властям было трудно, почти невозможно. Но строить надо было, ибо, не имея железных дорог, самая большая в мире страна не могла ни нормально развивать экономику, ни защищать себя: Крымская война была неудачной единственно потому, что от Севастополя оказалось много ближе до Лондона и Парижа, чем до Москвы и Петербурга. Союзникам оказалось проще подвозить войска и грузы из Европы в Крым морем, чем России доставлять их пешком и на телегах через южнорусские степи.
Денег на строительство в казне не было. Обычное дело. Не было денег и у русского купечества: страна была дворянской, а крепостного происхождения купечество ещё не нагуляло финансовой мощи. Выход нашли такой: строительство железных дорог взял на себя частный капитал, бравший деньги под кредит на Западе; государство российское выступало перед иностранцами гарантом, что наши купцы их не кинут.
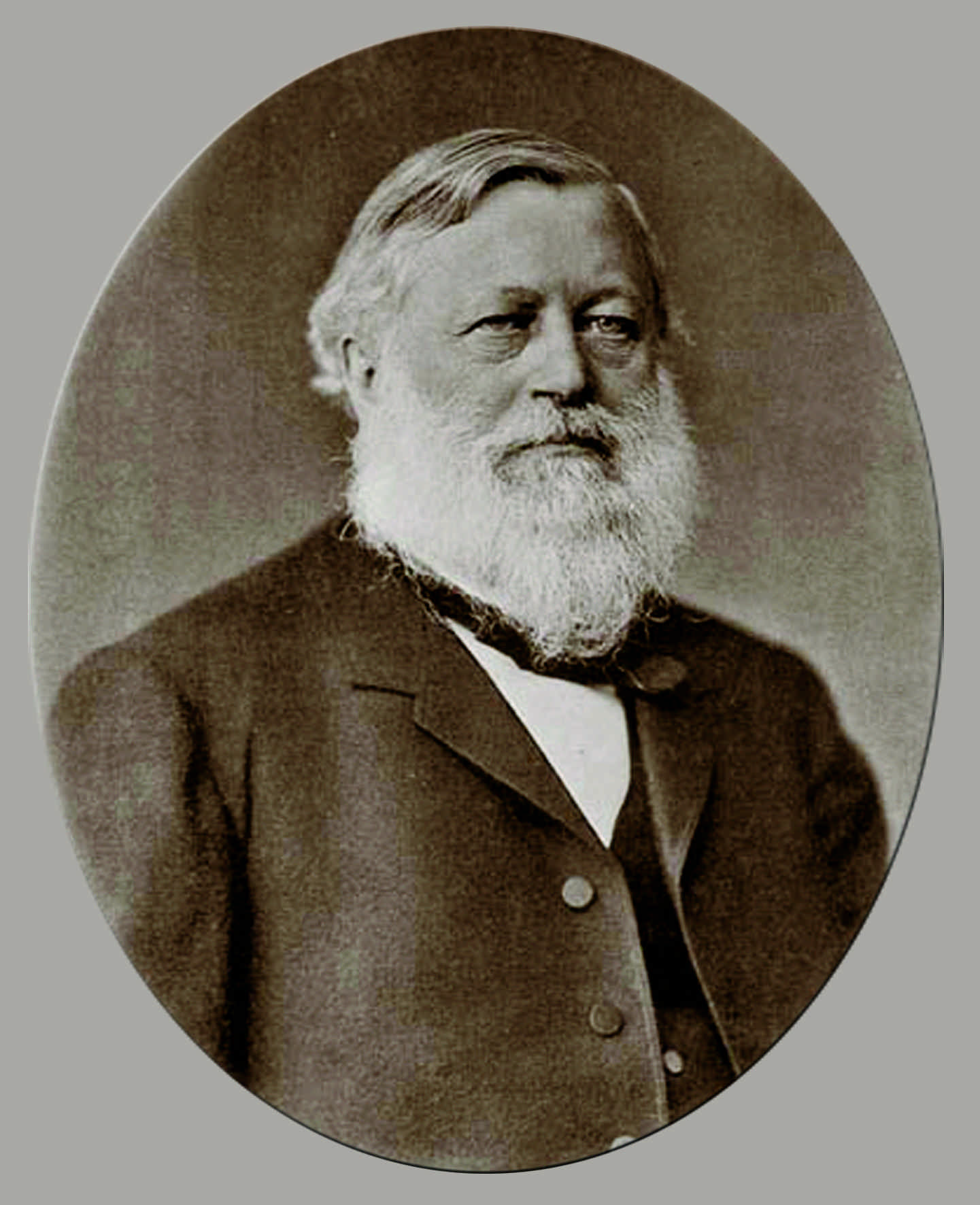
В Москве инициатором железнодорожного строительства выступил известный Тимофей Саввич Морозов. Заручившись словесной поддержкой министра путей сообщения П. П. Мельникова, заверившего, что правительство в его лице всецело поддержит предпринимателей в железнодорожных проектах, Морозов решил подвигнуть земляков на новое дело. В Гостиный двор пригласил на собрание самых известных московских купцов. Собралось человек тридцать, все носители известных купеческих фамилий.
Морозов сказал горячую речь. Эффект получился поразительный. Купечество, ещё жившее реалиями крепостной эпохи, не могло понять, что настало другое время с другими правилами и требованиями. На Морозова и его единомышленников посмотрели как на опасных вольнодумцев, могущих вовлечь в конфликт с властями, кои, конечно, не замедлят принять крутые меры к ослушникам. От греха подальше большинство купцов решили покинуть опасное сборище, а чтобы сделать это незаметно, опустились на пол и на четвереньках выползли из комнаты.
Осталось только двенадцать человек, самых смелых. Они-то и организовали Общество для строительства железной дороги. Решили, что капитал общества будет состоять из 15-ти равных частей, причём Морозов взял две части, а две оставшиеся ничейными части были взяты правительством на свой счёт.
Морозов и ещё двое из двенадцати участников были избраны для переговоров с министерством. Но Мельников подвёл, хотя на словах сулил самые выгодные перспективы; одно время обещал даже аренду Николаевской железной дороги, потом сулил права на постройку дороги от Москвы до Смоленска, потом дороги Москва – Курск. И всё время кто-то обходил москвичей: Николаевская и Смоленская дороги ушли конкурентам.

Когда стало ясно, что доверяться словам министра бессмысленно, решили подыскать лицо, могущее присмотреть в канцелярии министерства за ходом их ходатайства. Такового нашли в лице Александра Агеевича Абазы, крупного чиновника, но в то время находившегося в опале и бывшего не у дел. Однако опала опалой, а связи в верхах никто не отменял. В итоге московское купечество получило-таки концессию на постройку Московско-Курской железной дороги.
Деньги Обществу предоставил известный лондонский банкир Беринг с рассрочкой платежа на 20 лет. В положенный срок с доходов от построенной дороги Берингу была уплачена вся взятая сумма.
За несколько лет вся Россия была покрыта сетью железных дорог, уже к 1881 году железнодорожная сеть в стране протянулась на 23 тысячи километров, рельсы отечественного производителя практически вытеснили импортные, подвижный состав на ¾ производился в России.
Государству Курская дорога не стоила ни копейки, причём стоимость строительства верстового участка оказалась самой дешёвой, чем была в России до сих пор. Отметим особо, русские железные дороги до самой революции были высокодоходными предприятиями, не говоря уже о том, что там, где они появлялись, происходило резкое оживление экономики и рост благосостояния населения. По комфорту и удобству путешественников с нашими дорогами не могла равняться ни одна страна мира, это единодушно отмечали все русские люди, оказывающиеся в европейских и североамериканских вагонах.
Со временем, когда финансовое положение государство упрочилось, начался процесс деприватизации железных дорог. В частности, Курская железная дорога была выкуплена правительством в 1893 году. Сумма выкупа составила 75 миллионов рублей. Каждый из 12 участников получил по 5 миллионов, затратив только 5 тысяч личных денег, уплаченных Обществом генералу Абазе за его хлопоты. Т. С. Морозов, имеющий две части, получил 10 миллионов, А. А. Абазе было уплачено 75 тысяч рублей за его хлопоты. Уплачены открыто, не под столом в конверте. Наивные были времена и наивные чиновники. Сравните с современными, берущими суммы с десятком нулей в виде процента от суммы сделки.

Крестьяне и баре
В подмосковном имении Великого князя Сергея день Ильи Пророка в конце июля одновременно был днём приходского и деревенского праздника. Венцом празднества была ярмарка. За несколько дней странствующие торговцы заставляли своими палатками главную улицу. Ярмарка длилась три дня; с качелями и каруселями, павильонами для увеселительных зрелищ и фотографирования. Крестьяне съезжались со всей округи на повозках и телегах.
Ярмарка открывались естественно после обедни. Открывал лично Великий князь. Согласно традиции в этот первый день вся великокняжеская семья отправлялась за покупками. Сергей Александрович и его жена Елизавета Федоровна полагали обязательным что-нибудь купить у каждого торговца. Они начинали обход с разных сторон, встречались на середине и дальше следовали своим путем. Позади них шли слуги с огромными корзинами. Корзины быстро наполнялись изделиями местных мастеров: льняным полотном, набивным ситцем, косынками и шалями, гончарными изделиями, стеклянной посудой, лентами, тесьмой, сладостями, расписанной посудой в узорах и даже карикатурой.
Детям специально давались деньги, и они должны были самостоятельно покупать подарки для всех домашних, включая и слуг.
Так проходил почти весь день. Вечером, после обеда (это мы сейчас обедаем по советской традиции вскорости после полудня; до революции обед проходил ближе к вечеру) семья возвращалась на ярмарку. При свете плошек с салом и воткнутых в бутылки свечей катались на каруселях. Правда уходили довольно рано, ибо народу было не менее чем днём, и к вечеру разгорячённая выпивкой толпа становилась особенно шумной. Навсегда остались эти вечера в памяти приёмных детей Великого князя – они засыпали, а издали доносились звуки гармоний, голоса подвыпивших крестьян и пронзительный смех женщин.
Народные традиции живучи. Но всё же и они умирают, сейчас такого нет.
Грибы и частная собственность
Жизнь во многом строилась не на законах, а на традициях.
Подмосковное имение Великого князя Сергея Александровича в Ильинском занимало почти 1000 гектар на берегу Москвы-реки. Дохода оно не приносило, наоборот, требовало значительных вложений. При небольшом доме, выстроенном из дуба, был отличный парк, славившийся ягодами и грибами. На парк распространялось священное право частной собственности, и до крестьян окрестных деревень был доведен строгий запрет на посещение парка. Где-нибудь в Европе этого было бы достаточно. Но у крестьян села Ильинское свои понятия – крестьяне, в основном почему-то женщины, ходили в княжеский парк по грибы как к себе домой, а при приближении кого-нибудь из домочадцев просто убегали. Никто за ними не гнался, расхитителей грибов никогда не искали и по закону не преследовали!
Самим Великим князем такое соотношение закона и обычая воспринималось как должное. Одни довели, что собирать грибы запрещено, другие запрет благополучно игнорировали. Все довольны. Россия!
Подрастающие дети графа Бенкендорфа, Константин и Василий, проживая летом в семейном поместье, самозабвенно увлекались охотой. Петров день, 29 июня по старому стилю, когда в России открывалась охота на дикую утку и бекасов, делил для них лето на «до и после». До 29 июня подростки занимались плаванием, рыбалкой и ловлей раков, верховой ездой и немного теннисом. После 29 июня все эти развлечения забывались, оставалась одна охота. Охотились с утра и до вечера, пешком, с собаками, благо болотистые луга реки Цны изобиловали дичью. В поместье даже ужин, обычно начинавшийся в 19.30, переносили на 21.00, когда ребята, промокшие, грязные и измученные возвращались домой.
Случалось, дети задерживались и дольше, и тогда мама, графиня София Петровна, начинала волноваться и посылала на конюшню указание послать человека верхом с фонарём встретить детей и, если нужно, помочь. На конюшне приказ, конечно, выполнялся незамедлительно. Всадника спешно снаряжали, и главным его делом было специально шумным галопом проехать мимо дома. Потом посланный благополучно останавливался на плотине у пруда метрах в трёхстах от дома. Это было место, которое братья никак не могли миновать, откуда бы они ни возвращались, где спокойно, подрёмывая, человек ожидал возвращения братьев.
Через много лет, став взрослыми, братья открыли этот секрет матери, но она иногда всё же продолжала посылать «человека с фонарём».
Основание
Знаменитая «Трехгорка» существует до сих пор, ныне это ОАО «Трехгорная Мануфактура». Считается, что дело было основано в 1799 году молодым купцом Василием Прохоровым и мастером красильного дела Фёдором Резановым.

Но истинная предыстория основания началась с того, что Василий Иванович, сын монастырского крестьянина, перешедшего в мещанское сословие, занялся пивоварением: устроил в Хамовниках небольшую пивоварню.
Но, как гласят источники, человек он был благочестивый и богобоязненный, занятие пивоварением тяготило его, ибо не соответствовало его убеждением, и Василий Иванович решил искать другое занятие. Судьба свела его с Резановым, работавшим на ситценабивной фабрике и знакомым с набивочным производством.
Так возникло фамильное дело Прохоровых, ставшее со временем одной из лучших текстильных фабрик России. К началу XIX века это было уже паевое товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры, кроме московской семья имела мануфактуры Покровскую и Ярцевскую. Надо сказать, что русские короли ситца и пряжи одевали не только Россию, но и весь Туркестан, и успешно вытеснили европейских конкурентов из Ирана и северо-восточного Китая.
Странные были люди по нынешним временам! Чем их доходы от огненной воды не устраивали? Но вся более вековая история дореволюционной «Трехгорки» связана с фамилией Прохоровых.
Современник писал: «Родовые фабрики были для нас то же самое, что родовые замки для средневековых рыцарей!».
От других московских купеческих родов семья Прохоровых отличалась прежде всего тем, что её представители мало проявили себя в общественной деятельности. Всё их внимание и время уходило на фабрику. Зато на фабрике было сделано всё, что только можно: больница существовала с 1870-х годов – до этого был приёмный покой; амбулатория, родильный приют, богадельня. Школа была открыта еще в 1816 году, работали несколько ремесленных училищ для подготовки квалифицированных рабочих, библиотеки. Был и свой театр для рабочих.
Во время Японской войны Прохоровы устроили в Омске большой лазарет для раненых, им заведовала А. А. Прохорова. Во время голода 1892 года, самого большого в дореволюционной России, Екатерина Ивановна Прохорова (в замужестве Беклемишева) устроила в Черниговском уезде столовую для голодающих и госпиталь для тифозных, истратила на это большие деньги и вдобавок заразилась от больных тифом. Она была известна как талантливый скульптор; её изделия были во всех музеях и частных коллекциях.
Династии Прохоровых Россия обязана и первым русским чемпионом мира по шахматам – мама Алексея Алёхина в девичестве Прохорова.
Как правильно произнести речь
Наука нехитрая. Есть несколько простых правил. И главное из них - обязательно упомянуть первое лицо. В хвалебном смысле конечно. И ещё желательно поблагодарить, неважно за что. А лучше похвалить и поблагодарить одновременно. Правила эти не вчера придумали. Автор помнит, как в военном училище старый преподаватель напутствовал первокурсников, разбирающих темы курсовых работ: «Главное, чтобы на первой странице была цитата из Ленина; у кого цитаты не будет, дальше читать не буду, больше тройки не ждите».

19 октября 1811 года в Царском селе в Екатерининском дворце торжественно открывали Лицей. Первый набор – тот самый, в котором Пушкин, ещё 12-летний, ещё не поэт, в котором Горчаков, будущий канцлер, Матюшкин, будущий адмирал, и многие другие впоследствии известные люди.
Присутствовали Александр I, царская семья, члены Государственного Совета, министры, придворные. От лица преподавателей перед почтенной публикой и лицеистами выступал профессор права А. П. Куницын. Говорил об обязанностях гражданина и воина. В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе. Это небывалое дело так поразило и так понравилось Императору, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест.
