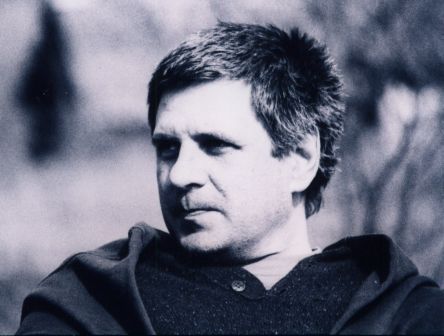- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 6
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 6
Вадим Приголовкин 2.11.2015
Вадим Приголовкин 2.11.2015
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 6
Исторические мозаики
Жалует царь, да не жалует псарь
Инженерного генерала Веретенникова, Костромского губернатора, свергли недовольные им его же подчиненные. Зная привычку генерала подписывать, подаваемые на подпись бумаги не читая, подсунули ему прошение о своей собственной отставке. Вышел маленький весёлый скандальчик, и губернатор действительно вынужден был оставить свой пост.

Вступивший в марте 1900 года в должность Начальника канцелярии министерства двора А. А. Мосолов вспоминал, что по первости собственные подчиненные позволяли подкладывать ему на подпись бумаги, противоположные его же собственным распоряжением.
Весёлый на Руси был чиновничий народ!
Во время визита в Австрию Мосолов обратил внимание на любопытный обычай, существовавший при дворе Габсбургов. Всем приглашённым от имени австрийского императора к десерту подали конфеты, завёрнутые в бумагу с фотографиями монарших особ. Даже тем, кто к сладкому не притронулся, при выходе из дворца заботливые служители преподнесли оставленные на столе конфеты, завернутые и красиво перевязанные шнурами австрийского флага.
Мосолову идея понравилась, он предложил отвечавшему за царский стол гофмаршалу графу Бенкендорфу завести подобный обычай и при русском дворе. Многоопытный Бенкендорф сразу ответил, что это невозможно. По традициям русского двора, все конфеты, не съеденные за столом приглашенными лицами, шли в распоряжение прислуги.
- Изменить эту традицию нельзя, – сказал Бенкендорф. – Будет масса недовольных! А гости все равно не получат того, что будет для них приготовлено.
Вот так: мудрый Бенкендорф даже не пытался воевать с дворцовой прислугой. А могущественный министр двора граф Фредерикс попробовал. И вот что из этого получилось.
Суть дела заключалась в следующем. Издавна завелось, что блюда к царскому столу полагалось подавать без перерыва: кажется, это правило ввел Александр II, – не любил он пауз в перемене блюд. Посему кушанья приносили к столу заблаговременно, и в ожидании подачи они парились в специально выдуманных грелках, чтобы не остывали. Но как понимают настоящие гастрономы, качество еды от этого страдало безвозвратно. Особенно соусы – они в процессе ожидания просто гибли. Нам, сегодняшним, в эпоху фастфуда этого конечно не понять, но раньше люди в правильной еде знали толк.
Граф Фредерикс всю жизнь боролся с этим «гастрономическим вандализмом». И однажды в Ливадии он решился на крайние меры, покусившись уничтожить паровые грелки. Призвал инженеров, и соединили они железной дорогой кухню с подвалом-буфетной, которую увенчали подъемником, ведущим в столовую. Министр ликовал, полагая, что отныне блюда будут являться к царскому столу в надлежащем аромате паров, с пылу жару.

Но забыл министр ознакомиться по данному вопросу с авторитетным мнением придворных поваров. А их мнение, как, оказалось, разошлось с мнением министра. Повара заявили, что чудо инженерное техники не могло не расплескать в движении соусов. Ну а что они еще могли заявить, – ведь прогресс оставлял без работы всех тех вышколенных поварят, кошачьей походкой носивших блюда, которые были – понятное дело – внуками, родственниками и зятьями этих самых поваров.
Тогда министр приказал: поезд задвигался.
Продвинутые повара ответили итальянской забастовкой: поезд стал ходить медленно, так медленно, что блюда до царского стола доезжали, остыв совершенно. В конце концов, поезд вообще перестал ходить. Коллекцию грелок торжественно водрузили на старое место, и больше с ними никто не боролся; торжествующие поварята остались при своих, министр отступил.
Вся эта низшая дворцовая прислуга представляла собой весьма сплоченную среду, практически касту. Все они происходили из дворцово-служивого дворцового сословия, существовавшего при крепостном праве. Это были крепостные лично государя. Реформы Александра II Освободителя юридически положили конец существованию этого сословия. Но и во времена Николая II практически все эти служители происходили из потомков тех самых крепостных, поколениями, служившими при монархе. Рассказы про Екатерину Великую были для них живыми воспоминаниями дедушек и прадедушек, а не книжными страницами учебников.
Каста этих низших дворцовых служителей была самыми рьяными блюстителями старинных дворцовых традиций. Но странным образом это не касалось их политических убеждений: на выборах в государственную думу дворцовая прислуга голосовала преимущественно за эсеров! За самую что ни на есть в те годы радикальную партию!
Казалось бы, исходя из собственных прагматических интересов, да и просто из здравого смысла, храня собственное благополучие, люди эти должны были быть убежденными монархистами! Ведь жили рядом с царем, получали зарплату, питались с царского стола, поколениями строили благополучие своё и детей своих исключительно от щедрот царских, следовательно, и стоять должны были за существующий правопорядок. Так оно, наверное, и было бы в любой другой стране мира. Но только не у нас. У наших собственная логика, собственно логике неподвластная, ставящая европейцев в тупик до сих пор.
Именно об этих самых царских поварах писал Александр Дюма, познакомившийся с ними во время своего известного визита в Россию в 1859 году: «Россия – страна неразрешимых арифметических задач. Например, повар императора получает сто рублей в месяц и из этих ста рублей обязан платить своим помощникам. У него два помощника; первому он отдает сто пятьдесят рублей, второму – сто двадцать!»
О способах борьбы с бюрократией в частности и дореволюционных законах вообще
5 апреля 1863 года Александр II утвердил «Правила о взысканиях и наказаниях за нарушения Уставов о казенных лесах», внося изменения в соответствующий раздел Уложения о Наказаниях Уголовных и Исправительных.
Закон как закон, – в каждой статье вслед за перечислением возможных нарушений следует мера наказания – штраф или тюремный срок. В общем, ничего интересного, так писали и пишут законы во все времена и во всех странах мира.
Но вот читаем статью 4-ю. Цитирую: «Не вменяется в вину самовольная порубка казенного леса, сделанная крестьянами, имеющими право на отпуск им леса, от казны за взимаемый с них лесной налог, если они в назначенном для рубки участке вырубят не свыше годовой пропорции и при том после уже 1-го ноября и ими за два месяца до того была подана куда следует просьба об отпуске леса, не получившая еще разрешения».
Вот так, легко и просто. Подал куда следует прошение, не получил ответа, - не твои проблемы, иди, спокойно вырубай, только руби в положенном месте и не наглей, бери сколько надо на зиму, не больше. И тогда это уже проблема того чиновника, который свои обязанности не исполнил.
В подобном духе действовало правительство, борясь с голодом в стране уже в начале ХХ века. Было введено положение, при котором при первом известии о нехватке хлеба в какой-либо губернии таможня автоматически закрывала вывоз хлеба за границу. В результате воротилы-капиталисты, несшие убытки, учредили комитет, который на бирже отслеживал ситуацию. И как только в каком-то регионе страны возникали проблемы, промышленники сами спешили направить туда зерно. Вмешательства государства уже не требовалось, и для казны экономия.
Неплохо бы сейчас подобное взять на вооружение. Нехватка где-нибудь солярки во время посевной, или цены зашкалили – перекрыть ведущую за кордон трубу. Но это конечно мы мечтаем: в современном мире сие неосуществимо.
Вообще же в дореволюционной России много было таких вот проявлений человечности в законах.
Что стоит одно законодательство о призыве на военную службу. Например, единственный сын в семье в мирное время в армию призыву вообще не подлежал. Его могли призвать только во время войны, но без права отправки на фронт. Служил он только в тылу.
Или вот повестка заседания Правительствующего Сената. В последний день 1857 года Сенат слушал рапорт военного министра следующего содержания: «В Военное министерство часто поступают прошения от родителей разного звания и состояния, об отдаче в военную службу их детей, за неповиновение, оскорбление родительской власти, праздную и порочную жизнь и другие поступки».
Известно, армия – школа жизни.

Лучше всего, на наш взгляд, охарактеризовал имперское законодательство Владимир Александрович Сухомлинов. Блестящий офицер, кавалерист, военный министр Российской империи в 1909-1915 гг., - он ухитрился отсидеть при трех режимах: при царе, при демократах из Временного и при большевиках, лишний раз, подтвердив, что на Руси от сумы и тюрьмы не зарекайся. Так что его мнение вполне можно считать мнением эксперта. Он писал так: «Режим при царском правительстве был строгий, но гуманный». Характеризуя времена после свержения царя – не о большевиках еще даже, а о демократах Керенского и К0, он выразился просто – «бесчеловечный, чисто инквизиторский».
Представляет интерес история освобождения Сухомлинова, в августе 1917 года осужденного к пожизненной каторге. Вскоре после Октябрьского переворота Владимир Александрович оказался в «Крестах», как он пишет «… попал в светлое, сухое, теплое, недавно выстроенное здание, с центральным водяным отоплением, ванной комнатой с двумя прекрасными ваннами, постоянно горячей водой и кухней в распоряжении заключенных».
Но конечно, даже две ванны осужденного на пожизненное не радовали, и по случаю посещения тюрьмы видным большевиком Зориным Владимир Александрович предъявил претензию новой власти, заявив, что по старым законам, как достигший 70-ти летнего возраста, он подлежал бы освобождению от присужденного наказания. Зорин ответил, что старых законов они не признают, что Сухомлинов ловко парировал замечанием, что раз большевики считают старые законы несовершенными, то их, новые не могут быть хуже того, что было раньше. Сопровождавший большевика присяжный поверенный подтвердил, что такой закон в старых уложениях действительно имелся.
Как следствие, на 1 мая 1918 года Сухомлинова освободили по амнистии. Случай и гуманные царские законы сработали последний раз. В те первые послереволюционные дни, еще случались такие пасторальные истории. Террор начался несколько позже. Сокамерникам Сухомлинова, оставшимся в заключении не повезло: начавшийся вскоре террор не оставил им шансов.
О честном слове

В 1857 году правительство Александра II озаботилось сохранением леса. Для пользования крестьян ответили расходные участки, по одной десятине на душу, а что сверху отвели в неприкосновенный запас. Так возникли заказники.
А чтобы крестьяне не расхищали этот неприкосновенный запас, в законе черным по белому записали: «крестьяне должны… дать взаимное обещание не истреблять и не портить сих лесов, как это было сделано по некоторым губерниям бывшим министром финансов графом Канкриным и оказало благодетельные последствия».
Каково!
Такое серьёзно в законах писалось! И не знаешь, умиляться или смеяться.
Но ведь работало, как следует из текста закона.
Представим, что сегодня правительство издаст указ, вроде «всем участникам дорожного процесса, водителям и сотрудникам автоинспекции дать взаимное торжественное обещание не давать и не брать взятки». Кого после этого в психушку упекут?
Остаётся признать, что люди за XX век изменились кардинально. И, наверное, не в лучшую сторону. Строго говоря, мы сравнительно с нашими предками давно уже не русские. Мы другие; наверное, можно сказать - советские – по менталитету, привычкам, поведению, и вообще по отношению к этому миру.
Логика
В своё время подвиг рядового Чомбарского полка Василия Рябова стал известен всей России. Будучи лицом весьма похож на китайца, Василий переодевался в Маньчжурскую одежду и шёл на разведку в тыл японцам. Будучи раскрыт, он мужественно встретил смерть, восхитив своей стойкостью даже фанатично верных долгу японцев.
Вдова солдата получила щедрое вознаграждение от императора Николая II, плюс частных пожертвований для семьи было собрано до 12000 рублей. Вдова Рябова, получив эти большие по тем временам деньги, немедленно выгнала из дома родителей, объявив, что это пожертвования на детей, а для себя они должны собрать сами. Старики приехали в Москву, жаловались.
Вы думаете, общественность растоптала солдатку?
Отнюдь! Конечно, московское общество осудило бессердечную, но и отметило, что по-своему вдова … права! И скинулись для стариков отдельно.
Дело казачки Ирины Алексеевской, или немного об угнетённой женщине востока.
Было это на Сибирской линии в лето 1827 года. В Омске казачка Ирина Алексеевская подала жалобу начальнику штаба Сибирского отдельного корпуса. Жаловалась, как водится на мужа, дескать, забросил семью, хозяйством не занимается, материальной помощи не оказывает, и даже приобретённое её трудами имение, стоимостью более чем в 500 рублей промотал, а двух сыновей отдал на воспитание посторонним людям.
Начальство отреагировало. Для подробного исследования вопроса был устроен, как тогда говорили, «повальный обыск» крепости Ануйской и редута Андреевского, где проживали супруги. Опрос соседей выявил, что «казак Алексеевский поведения хорошего, по домашности рачителен, детей в чужие руки никому не отдавал и имения жены не проматывал, да и онагу никогда у них не было», а что было, не превышало стоимости 150 рублей.
А про саму жалобщицу жители показали, что она «самого распутного поведения, не занималась хозяйством, всегда убегает от мужа своего», все попытки местного начальства её образумить, ничего не дали, и «её распутная жизнь увеличилась до такой степени, что изобличена была в воровстве с казаком Асановым», который из-за «прелюбодейной связи» с Алексеевской бросил семью.
1 мая 1828 года командующий Сибирского отдельного корпуса генерал-лейтенант де Сент-Лоран определил отказать казачке Алексеевской в её несправедливой просьбе и поручил местному начальству помирить её с мужем, а в случае несогласия разрешить казаку Алексеевскому просить духовное ведомство о разводе, что казак и сделал.
В конце апреля того же года командовавший 6 Сибирским казачьим полком сотник Махонин доложил по начальству, что определенная на жительство в редут Георгиевский казачка Алексеевская «имеет распутную жизнь нетерпимую в обществе, и жители того редута не согласны держать её более в своём месте».
Тогда, начальство постановило переселить Алексеевскую с двумя сыновьями и дочерью в крепость Ямышёвскую (туда казачка в прошении на имя Омского областного прокурора просилась сама). Местным начальникам в Ямышёвской было предписано «чтобы ей притеснений и обид со стороны казачьих жителей делано не было, равно никто бы с ней никаких связей в особенности не делал, а также представить местному начальству строго смотреть за её поведением и удерживать от дурных поступков».
А казака Аксанова, что бы Алексеевская не смогла иметь с ним никакой связи, перевели из редута Георгиевского подальше, в форпост Пещанный.
Современный историк, исследовавший это дело в архивах, отмечает два момента. Во-первых, никакого наказания для женщины, даже устного порицания вынесено не было. Это, несмотря на то, что она разрушила две семьи, подозревалась в воровстве и оклеветала мужа перед властью и людьми. Вероятно, сказалось наличие трех детей и согласие мужа на развод без каких-либо других претензий. Во-вторых, из дела видно, что казачка могла свободно обращаться с письменными заявлениями в самые высокие инстанции, и при этом рассчитывала на поддержку. Говоря современным языком, социальная защищенность женщины на далекой азиатской окраине была на достаточно высоком уровне.
В общем, наши жены, писавшие на мужа в партком, первопроходцами не были.
Кур вниз головой не носить, во избежание обморока

В начале сентября небезызвестная Памелла Андерсон на Восточном экономическом форуме во Владивостоке фотографировалась с министрами и поучала наших людей зверюшек любить. Визит голливудской актрисы широко освещался СМИ. Ничуть не принижая выдающихся достоинств Памеллы, заметим, что Зелёные и прочие современные гастролирующие защитники природы и животных ничем удивить нас не могут. Наша баронесса Мейндорф ещё в начале прошлого века была председательницей Общества покровительства животных, - да, было в России такое! Женщина честолюбивая, в своём усердии она часто становилась героиней смешных историй, одновременно создавая массу затруднений администрации.
Как-то в Ялте Вера Николаевна потребовала у губернатора, чтобы кур не носили на рынок вниз головой, ввиду возможности обморока. Умный губернатор не стал спорить с женой человека, состоящего при дочерях самого императора, и отдал соответствующее распоряжение. Но скоро Вера Николаевна опять явилась к нему с жалобой.
- Я не допускаю и мысли, чтобы крестьяне не исполнили моё распоряжение, - сказал губернатор.
- Перед моей дачей всё обстоит благополучно. Но за углом несчастные куры опять попадают в положение вертикальное… Я сама ходила тайком смотреть.
В другой раз город наблюдал такую картину: по улице бежал красный пудель, за пуделем гналась стая дворняжек, а за дворняжками поспешала баронесса, крича:
- Держите красную собаку!
После долгой погони пуделя изловил городовой. Баронесса велела ему нести собаку прямо в губернаторский дом, сама следовала следом в величайшем волнении. Губернатору пришлось принять её вне всякой очереди.
- Какая тут администрации, - волновалась баронесса. – Безобразие! Позор! Я требую строжайшего наказания для того, кто позволил себе истязать эту собаку!
Губернатор то ли пытался возражать, то ли тонко потешался:
- Простите, баронесса. Но в чём же состоит истязание? Дамы себе красят волосы, и это считается вполне уместным…
- А самолюбие собаки? Вы с ним не считаетесь? Боже мой, все дворняжки Ялты бежали за пуделем. Собака явным образом страдала…
- Вы не можете этого доказать… Пуделю, может быть, льстило, что на него обращают внимание.
Баронесса все же настояла. Произвели дознание. Оказалось, что пуделя покрасил один из офицеров, находящейся под начальством её мужа…. Тогда доложили государю: Николай II распорядился довести до сведения баронессы, что виновного найти не удалось.
Так что пусть Европы нас не учит: мы и тут впереди планеты всей.