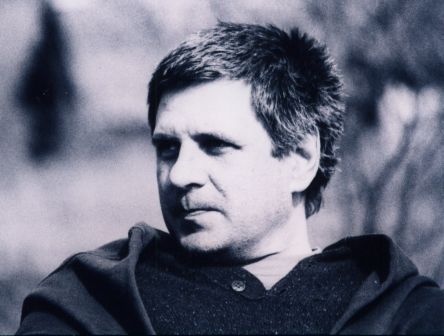- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 7
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 7
Вадим Приголовкин 17.11.2015
Вадим Приголовкин 17.11.2015
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 7
Исторические мозаики
О традициях, временах и нравах
В бытность Георгия Константиновича Жукова министром обороны СССР, в 1955-1957 гг., понятие «жуковская тройчатка» - снять с должности, снизить в воинском звании, уволить без пенсии, - на несколько поколений вошло в лексикон советских военных. Маршал лютовал, снимал начальников, невзирая на былые заслуги и звания, особенно тех, у кого были нарушения воинской дисциплины. Поездки министра по округам наводили страх и панику.
.jpg)
Летом 1955 года Георгий Константинович приехал в Таллинн. Все было как обычно, жестко и грубо: на совещании руководящего состава Балтийского флота Жуков сидел за столом один и поочередно вызывал начальников для отчета. Критерий для оценки у него был прост: все, кто были в должности более 4-х лет, и у кого, по мнению маршала не было порядка, тут же лишались должности. Был снят командир дивизии охраны водного района Таллиннской базы, начальник береговой обороны, несколько командиров авиационных дивизий, кто-то из политработников (несмотря на возражения, что его может снять только ЦК), еще ряд начальников. Моряки ходили мрачные.
Потом настала очередь сухопутных. Прибалтийским округом в то время командовал генерал армии Горбатов Александр Васильевич. Надо сказать, что к Горбатову Жуков относился с большим уважением: он был одним из немногих, кого маршал называл по имени и отчеству. И вот, в ответ на претензии Жукова по поводу дисциплины в округе Горбатов вдруг заявил:
- Георгий Константинович! Раньше, до революции, когда мы с вами служили солдатами царю-батюшке, перед тем как поступить на службу, мы иконы целовали, на хоругвь молились, Бога почитали…. а сейчас святого мало, одними разговорами ничего не достигнешь».
По воспоминаниям очевидцев, к всеобщему удивлению Жуков сразу смягчился, утратил свою резкость и агрессивность, и даже улыбнулся.
Как правильно подобрать штабного офицера
Назначенный командующим войсками Забайкальской области генерал Хорошхин обратился к Драгомирову, тогда начальнику Академии, с просьбой рекомендовать ему офицера Генерального штаба.
- А с какими особыми приметами? - спросил Драгомиров, - какого «момента» хотите ангажировать? Ну, то есть, кроме тактики, - быть ему партнёром в винт? Ухажёром? Питологом? Может быть, у вас некому дирижировать танцами?
- Да мне, Вашество, хотелось бы иметь работника, потому что в Забайкалье не было до сих пор офицера Генерального штаба.
- А! Вот вы кого хотите! Ну, возьмите тогда поручика Грулева, - глубокий армиют, наверное, работник.
С чувством глубокого удовлетворения можем констатировать, что некоторые традиции в нашей армии не умирают, несмотря на все смены эпох, правителей и общественного строя. В 70-е годы прошлого века отец автора служил в Сибирской армии ПВО. Командующему армии по штату полагался самолет. Попасть в свиту на его борт при облете дальних гарнизонов было большой честью. И в первую очередь, при прочих равных достоинствах, ей удостаивались умеющие хорошо играть в преферанс офицеры из управления армии. И то сказать – Сибирь велика, лететь долго.
Через 30 лет у Жукова объявился подражатель. После известного пролёта Руста вновь назначенный Главкомом войск ПВО генерал армии Третьяк Иван Моисеевич принялся объезжая гарнизоны, в Жуковском стиле снимая офицеров за всякую ерунду. Шептали в кулуарах, что Горбачев его - сухопутчика, никогда не служившего в ПВО и не знакомого со спецификой этих войск - специально назначил главкомом, и поставил задачу поприжать ПВОшную верхушку. Толи слишком много было в руководстве ПВО того времени относительно молодых генералов, летчиков-истребителей 40-х – 50-х, которые знали еще Сталина и для которых Горбачев не был авторитет, толи не забылось партийным вождям, что свергая в 54 году Берию Жуков во многом опирался на офицеров именно этого рода войск. Так это было или нет, не знаю, но закончилось все пшиком.
Как-то в одном гарнизоне, совсем рядом с Москвой, Иван Моисеевич махнул шашкой, велел отстранить от должности начальника госпиталя, за какую-то ерунду, - чуть ли не за окурок на тротуаре.
Начальник госпиталя только плечами пожал:
- На каком основании? – к ужасу генеральской свиты поинтересовался он, - И не думайте, что Вам это сойдёт с рук. Буду жаловаться на ваше самодурство вплоть до ЦК.
К всеобщему удивлению, Иван Моисеевич не нашелся, что ответить. А начальник госпиталя благополучно остался на своей должности. Дело спустили на тормозах.
Да, времена меняются: 87-й не 37-й, и даже не 55-й, а Третьяк не Жуков.
О претензиях
.jpg)
На инспекторском смотре 1875 года командир 1 гвардейской кавалерийской дивизии князь Голицын проводил так называемый опрос претензий. Из строя отозвался юнкер Всеволожский.
- Я имею претензию, ваша светлость.
Князь удивился, обычно претензий никто не предъявлял:
- Какую такую претензию может иметь юнкер?
- На красоту, ваша светлость, - ответил Всеволожский, не моргнув глазом.
Вышло эффектно. А Голицын подвел итог всеобщему веселью, с улыбкой приказав:
- Посадить эту «красоту» на гауптвахту.
Этот Голицын был, как пишет современник, «большой барин старого времени». Это определение очень часто встречается в заметках людей конца XIX-го, начала ХХ века, подразумевая еще распространенный, но уже уходящий тип старого чиновника и человека.
Макаров, служивший в Семеновском гвардейском полку уже в ХХ веке, так вспоминал Его Императорское Высочество, великого князя Владимира Александровича, главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа: «Как и полагалось начальству доброго старого времени, он никогда никого не ругал и не разносил, а только хвалил и благодарил».
Или о генерале Безобразове, выведшем гвардейский корпус на Великую войну, а с 16 года возглавившего Особую армию, куда вошел и вновь сформированный 2-й гвардейский корпус, и о многих других старших офицерах молодой семеновский офицер Макаров пишет просто – типичнейший «добрый барин».
Как то часов в 6 утра возвращался подпоручик домой. Откуда, мемуарист не уточняет, сообщает только, что «время провел исключительно приятно», оттого и решил пройтись пешком. Прекрасная погода, пустая совершенно в этот ранний час улица. Вдруг сзади мерной рысью одиночный рысак, пролетка с коронами на фонарях. В пролетке, по-гвардейски прямо, знакомая фигура с бакенбардами. «Я поспешно стал во фронт, - пишет Макаров, - но очевидно на физиономии моей отразилось такое непритворное изумление, что Владимир Александрович усмехнулся и погрозил пальцем» Правда было это уже незадолго до смерти Великого князя, когда корпусом он уже не командовал, и сам явно ездил куда-то не «по делам службы», но, тем не менее… Макаров даже хотел погрозить ему в ответ, но не решился.
Все эти добрые баре уходили в историю. Их время кончалось. Но вместе с ними уходила и старая Россия, начинались новые времена. В ХХ веке пальчиком уже не грозили.
Не спрашивай
В Сибири офицеры осматривали город Курган. Экскурсоводом выступал старик извозчик, охотно отвечавший на все вопросы. Но когда полковник Скалон, начальник штаба 71 дивизии поинтересовался:
- А ты давно тут и как сюда попал?
Старик сначала замолчал, а потом проговорил:
- Здесь не Рассея, чтобы спрашивать, как сюда попал.
И больше не проронил ни слова.
Экк вспоминал, что им всем стало жалко старика и как-то неловко перед ним.
Но могло быть и хуже
Но чувство неловкости и жалости вполне нормальные человеческие качества. А вот когда П. Н. Краснов, будучи назначен командиром 1 Сибирского казачьего полка прибыл к месту на службы на самую что ни наесть окраину Империи, в город Джаркент, что у границы с Китаем (в советское время город Панфилов, сейчас Жаркент, Казахстан), то там было так.
Как полагалось, вступая в должность, должен был объехать местное общество. Попросил офицера полка, помочь ему разобраться, кто есть кто. Тот начал перечислять местный бомонд и сразу после местного городского начальства, офицеров гарнизона и пары туземцев-богачей, полковых поставщиков, назвал… политического ссыльного, сосланного в Джаркент на поселение с десяток лет тому.
Краснов удивился:
- Отчего же я, государственный человек, командир полка, должен идти представляться сосланному за антигосударственную пропаганду.
Офицер тоже удивился.
- Не знаю. Так принято.
Это могло быть только в той России.
Умом не понять.
Вообще же, как писал поручик и будущий генерал Грулев, проделавший осенью 1888 года путь от Урала в Забайкалье с партией осужденных: « Политические ссыльные пользовались в то время значительными привилегиями по сравнению с уголовными. Конвойные говорили им «вы»; на этапах отводили им, по возможности, особые помещения; свои же товарищи по ссылке, уголовные, относились к политическим с большим вниманием и сердечностью».
Кто не предаст
В одной из статей мы уже упоминали генерала Лечицкого. После февральской революции он оказался одним из немногих из числа высших генералов, кто отказался признать государственный переворот и немедленно подал в отставку с поста командующего 9-й армии, которой с успехом командовал. Кажется таких, оставшихся бескомпромиссно верными присяге, во всей русской армии нашлось всего только 3,5 человека. Вторым был генерал Келлер. Третьим - генерал Гурко. С половиной потому, что история с генералом ханом Нахичеванским заслуживает отдельного описания, мы к ней еще вернемся.
Остальные высшие чины более-менее приспосабливались.
Наверное, характер Лечицкого, нечто чистое в этом старом солдате, что не позволило ему искать компромисс с властью заговорщиков и изменников, раскрывается в одной забавной истории. История столь прелестна, что приведем её в оригинале, как она запомнилась очевидцу, офицеру лейб-гвардии Семёновского пехотного полка, входившей в состав 1-й гвардейской дивизии, которой тогда командовал Лечицкий. «Помню, раз, как суровый солдат Лечицкий сконфузился. Вечером в день полкового праздника, среди других развлечений, был позван цыганский хор. Были почетные гости, великие князья, командир корпуса Данилов, командиры других полков дивизии, старые семеновцы и, конечно, Лечицкий.
После обеда сдвинули столы, цыгане сели у стены, а напротив, на стульях гости. Начались песни величания. Каждого гостя величали отдельно, особенной песней, а потом цыганка подносила ему на серебряном блюде стакан вина. По обычаю гость должен был встать, выпить вино, обтереть платком усы, поцеловать цыганку и положить ей на блюдо золотой, пять или десять рублей. Обычай этот столетний и все через этот ритуал проходили весело, но совершенно спокойно. Когда очередь дошла до Лечицкого, несколько человек нашей молодежи, которые всех этих цыган отлично знали, подстроили так, что к нему подошла самая молоденькая и самая хорошенькая цыганочка. Лечицкий встал, вино выпил, деньги положил, но когда дошло до поцелуйного обряда, замотал головой и стал пятиться назад. Что тут поднялось, не поддается описанию. Шум, крик, хохот. Наконец его заставили, причем подлая девчонка чмокнула его, пунцового от смущения, в самые губы не один, как полагалось, а целых три раза».
Как царю отдохнуть
.jpg)
Еще, будучи наследником престола, будущий император Александр III любил прогуливаться по лагерю в одиночестве, без всякой свиты. Обычно в шинели одетой на подпоясанную красную рубаху косоворотку, отведав «пробу» из солдатского котла – да не проформы ради, а уплетал от души, - после чего заваливался спать прямо на траве, на лужайке перед лагерной линейкой. Став императором привычку эту не оставил. Наверное, после убийства его отца, всех связанных с этим треволнений, такой отдых среди гвардейцев давал ему необходимую психологическую разрядку.
Хотя, возможно, тут еще говорили гены. Известно, что Николай I любил в Красносельском лагере спать в караульной палатке, стоявшей около полкового знамени. Ротные командиры в таких случаях в соседние палатки специально собирали солдат, которые не храпели.
Вообще малый двор наследника в Гатчине проживал очень скромно. Балам цесаревич Александр Александрович предпочитал рубку дров и рыбную ловлю, живя совершенно хуторянином.
Был у него любительский оркестр, в котором сам играл на большой басовой трубе. А на барабане стучал генерал Чингиз-хан, - да, да, настоящий потомок великого монгола. Знал бы Потряситель вселенной, отправляясь воевать Русь, чем всё закончится для его наследников! – игрой на барабане!
Зрителей у этого оркестра не было, играли для себя.
Вообще же генерал от кавалерии, награжденный многими российскими орденами, мусульманин и, по сути, русский дворянин Султан Хаджи Губайдулла Джангир-оглы Чингиз-хан честно служил России и Императору, был крупным чиновником; например, участвовал в разработке Положения об управлении духовными делами киргизов в областях Степного генерал-губернаторства в 1895 г.
Как завязать карьеру
.jpg)
Будущий военный министр Российской империи Владимир Александрович Сухомлинов был большим поклонником генерала Драгомирова, много лет служил под его начальством и покровительством и даже в свое время сменил Михаила Ивановича, на должности командующего Киевским военным округом.
А началось их многолетнее знакомство так.
Еще до русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Драгомиров, еще не в ранге национального героя славного защитника Шипки, но уже, будучи широко известным в русской армии своими воспитательными приемами, читал в Петербурге лекции перед офицерами местного гарнизона. Читал, в силу своего характера, едко, зачастую высмеивая сидящих перед ним генералов. Местным это естественно не нравилось.
Сухомлинов, тогда капитан, как-то набросал карикатуру, изобразив известную позу лектора, и пустил рисунок по рядам. Рисунок имел успех и, передаваемый из рук в руки,… дошел до Драгомирова.
Генерал засмеялся и пожелал непременно видеть автора. Товарищи вытолкнули капитана из его угла.
- Одобряю, - сказал Драгомиров, - Вы ловко схватываете оригинальные черты. Не бросайте вашего искусства.
Так началось их знакомство. «Я приобрел не только крупного учебных дел мастера, но личного друга и ценного покровителя, дружбу к которому я сохранил и после его смерти. Вся моя армейская жизнь протекала под влиянием этого, правда, оригинального, но чудного человека, солдата и русского фанатика», - напишет Сухомлинов полвека спустя.
Взятка – подлое дело, или как один казак дал взятку козлом, и что из этого вышло.
А вышел приказ командира Сибирского корпуса. Приведем в сокращении, но с сохранением орфографии: ибо – каков стиль! – зачитаешься.
Приказ по Сибирскому Линейному казачьему войску
крепость Пресновская
Июль 6 дня 1825 г.
№ 57
Справедливые просьбы от семейств казачьих на пристрастие, взятки и несправедливость частных казачьих начальников не перестают меня встречать при осмотре каждого эскадрона.
В редуте Дубровном, жена резервного казака Астафия Крапивина принесла жалобу, что муж её, Крапивин, послан в окружной Кокчетавский Диван, тогда как следовало быть наряженным того ж редута резервному казаку Василию Плешкову, она ж осталась сама шестая с пятью малолетними детьми в самом бедном состоянии.
Все скотоводство её состоит в одной корове, дом ветхий, нет хозяина, нет работника, дети малы, что по личному моему обследованию на месте действительно оказалось.
Состояние же казака Плешкова напротив достаточное: рогатой скотины у него более десяти, лошадей с лишком пять, баранов более десяти, дом исправен, он со здоровым отцом сам-шесть. Следовательно, семейство, оставаясь без его, с хозяином, при здоровой еще матери и жене могли бы поддержать прочих малолетних детей скорее, нежели пятерых таковых же содержать одной жене казака Крапивина при её бедности.
Казак Плешков, что бы избавиться от командировки в отряд, пустился на подлое дело, а начальник его, хорунжий Казин, согласился на таковое ж с самим казаком. Казин взял с казака Плешкова низкую взятку 10 рублей и козла и за оную оставил его дома. Крапивина же командировал в отряд, оставя слёзы его семейства.
Казина… предписываю арестовать на трое суток, взыскать с Казина в штраф взятку вдвое, как то следует по закону, т. е. 20 рублей деньгами и двух козлов и немедленно отослать семейству Крапивина, оставленному в нужде.
.jpg)
Казака Плешкова за подлое дело, за соблазн давать взятку, приказал я немедленно командировать на смену казака Крапивина, сего последнего предписываю отпустить немедленно к своему семейству и впредь ни в какие дальние командировки его не отлучать, пока дети не возмужают, что и наблюдать со всею точностью командиру полка и эскадронному начальнику.
Казака же Плешкова, вместо одной нарядить на две очереди, т. е. на два года, считая срок его службы со дня прибытия его к отряду.
В заключение сего изъявляю моё неудовольствие бригадным казачьим командирам, которые равнодушием своим к пользе их подчинённым никогда не заслужат моего внимания. Если б сами бригадиры судили и любили правду, не попустили бы они полковых, эскадронных и в редутах начальников на кривые дела, которые далеко пускают злые свои корни.
Теперь же предписываю исполнить следующее:
1-е, Немедленно ехать бригадным по своим дистанциям и в совокупности с полковым, и начальником редута привесть в известность, сколько подобных семейств казаку Крапивину без подпора и хозяина в доме окажется, мне донесть за общей подписью всех сих четырех лиц, которые за истину показания равно отвечать будут.
2-е. Приступить к наряду других казаков на смену.
3-е. При наряде сем главное наблюдать – дабы семья не осталась без хозяина… в крайней только необходимости допускается нарядить хозяина дома, но с тою строгой разборчивостью: дабы хозяйство и скотоводство его было достаточное всех из одиноких в редуте, дабы он в состоянии был на всё время командирования своего нанять работника
Подлинный подписал корпусной командир, генерал от инфантерии Капцевич.
Источники:
-
Сухомлинов В. А. «Воспоминания»
-
Макаров Ю. В. «Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917. Мирное время и война»
-
Недбай Ю. Г. «История Сибирского казачьего войска»
-
Э. В. Экк «От Русско-турецкой до Мировой войны»
-
Грулев М. В. «Записки генерала-еврея»
-
И. Касатонов. Флот выходит в океан