- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 34. Исторические мозаики
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 34. Исторические мозаики
Вадим Приголовкин 20.03.2018
Вадим Приголовкин 20.03.2018
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 34
Исторические мозаики
Комитет Сибирской железной дороги
10 декабря 1892 года императором Александром III было утверждено учреждение Комитета Сибирской железной дороги. Комитет этот просуществовал 13 лет, итогом его деятельности стало строительство эпохального сооружения – Транссибирской железной дороги, самой длинной железной дороги в мире. Сегодня бы эту стройку назвали Национальным проектом, и её значение трудно было бы переоценить. Даже победа над Японией в 1945 году и все сегодняшние наши газпромы и прочие богатства, работающие на страну, да и вообще то, что сегодня Сибирь принадлежит России, - это всё заслуга тех русских людей, которые в конце позапрошлого века в неимоверно трудных условиях за короткий срок построили величайшую магистраль в мире.
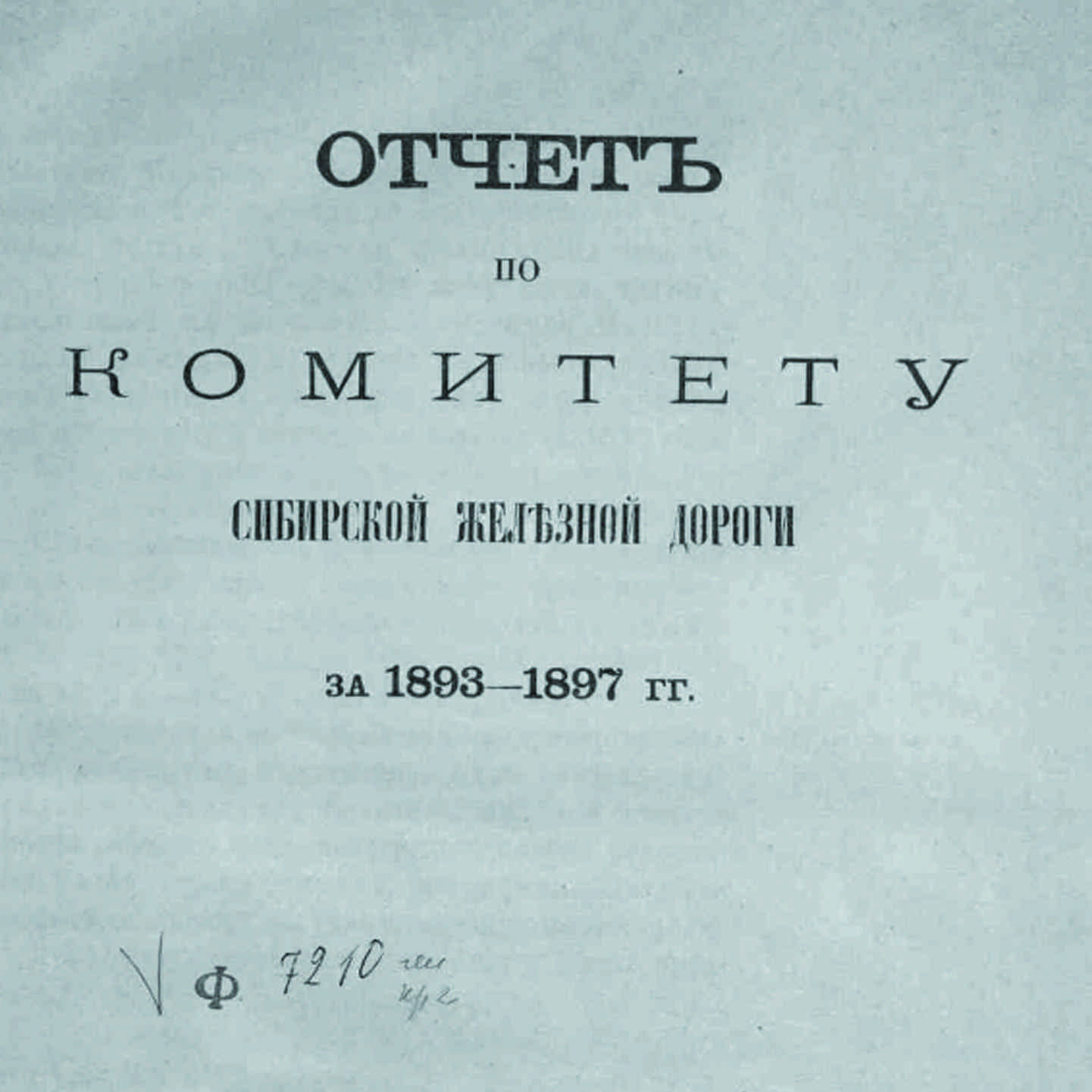
Ошибочно считать, что Комитет занимался только вопросами строительства собственно железной дороги; кроме этого, в его ведении была организация геологических исследований и разведки как для обеспечения будущей дороги минеральным топливом, так и вообще для развития добычи в Сибири золота, меди, железа и других ископаемых. Другой возложенной на комитет задачей, может быть, ещё более важной, было руководство переселенческим движением в Сибирь: разыскание и отвод удобных для переселенцев мест, их обустройство, а, кроме того, развитие существующих водных путей (в частности, осваивались водные маршруты по Карскому морю в устье Енисея, так что вполне можно считать заслугой комитета начало тому, что уже в Советское время назовут Северный морской путь), основание промышленных предприятий, привлечение рабочей силы (включая ссыльных и каторжников) и многое другое, вплоть до строительства школ и церквей.
Экономный Александр III принял такой вариант, при котором управление делами новообразованного Комитета было присоединено к деятельности управляющего делами комитета Министров, вследствие чего не потребовалось создавать ни особой дорогостоящей канцелярии, ни вводить особого содержания управляющему вновь создаваемого комитета; ограничились всего лишь небольшой прибавкой к жалованию Управляющему делами Комитета министров, на которого возложили совмещение двух должностей, и увеличили на несколько чинов канцелярию Комитета министров, отвечающую за делопроизводство по сибирским делам.
Председателем комитета был назначен наследник престола, будущий император Николай II. Деятельность его не была отбыванием декоративных функций почетного председателя: будущий император реально работал, вникал во все вопросы и сам был инициатором многих осуществлённых предложений. Например, во время обсуждения вопросов переселения в Сибирь именно он указал на необходимость насаждения среди крестьянского населения Сибири образцовых хозяйств.
Ещё интересный момент: по настоянию тогдашнего председателя Комитета министров империи Николая Христиановича Бунге, по примеру Комитета министров, Комитет Сибирской дороги не получил никакой исполнительной власти. Таким образом, за Сибирским комитетом оставалось направление и объединение деятельности различных ведомств. Особенно Бунге настаивал, чтобы вопросы о заключении подрядов на исполнение различных работ на участках дорог хозяйственным способом всецело оставались на обязанности Министерства путей сообщения. «Невозможно, - говорил он, - чтобы в столь обширном деле обошлось без злоупотреблений, хотя бы и мелких. Поэтому важно, чтобы имя наследника Престола не было примешано к подобного рода делам». Многоопытный Бунге оказался совершенно прав: вопросы о злоупотреблениях неоднократно поднимались, и во всех этих случаях Комитет имел развязанные руки для назначения комиссий и проверок, чем он широко пользовался.
Гласность в эпоху императора Николая II

Наше поколение связывает слово «гласность» исключительно с неудачными начинаниями М. С. Горбачёва, благодаря чему даже само это понятие оказалось в нашем сознании навеки скомпрометировано.
Всего Сибирский комитет собирался за годы своего существования 42 раза. И после каждого заседания журналы оного печатались для всеобщего, как тогда говорили, сведения. Это было единственное в то время высшее учреждение подобного уровня, журналы заседаний которого печатались целиком. Иногда подобная открытость приводила к неожиданным и весьма значительным результатам.
В опубликованном после 15-го заседания журнале были отражены дебаты членов Комитета о необходимости сооружения школ и церквей как вдоль дороги, так и в переселенческих районах. Известный на всю Россию священник Иоанн Кронштадтский, как оказалось, читал эти журналы и воспринял опубликованное за призыв к пожертвованию на добрые дела. Вскоре, к немалому своему удивлению, председатель Комитета Сибирской железной дороги и по совместительству Управляющий делами Комитета министров А. Н. Куломзин получил по почте 200 рублей от отца Иоанна. Как вспоминал впоследствии Анатолий Николаевич, это, по сути недоразумение, натолкнуло его на мысль опубликовать сообщение об этом пожертвовании, так как нельзя было серьезно думать, чтобы казна нашла большие средства для удовлетворения столь громадной по своим размерам потребности. Задумка удалась: вслед за опубликованием о скромном даре отца Иоанна со всех концов России в адрес Комитета всё расширяющимся потоком полились добровольные пожертвования. Примерно в это время скончался император Александр III, и составившемуся на эти пожертвования капиталу было присвоено имя чтимого в народе царя-миротворца, и вот эти два имени привлекли на это дело свыше 2 млн. рублей.
Что такое два миллиона в 1894 году? Для сравнения, весь годовой бюджет империи в тот год согласно Общей Государственной Росписи доходов и расходов составлял 1083601526 рублей (главной статьёй государственного дохода были поступления от продажи спиртного - питейный доход – 268 млн., вся таможня дала в казну 129 млн., выкупные платежи крестьян за землю принесли 82 млн., а казённые железные дороги 105 млн. - это мы перечислили практически все крупнейшие статьи государственного дохода в тот год. Согласно расходной части, к примеру, Ведомство Священного Синода истратило 12 млн. 606 тыс., из них на строительство и содержание зданий чуть более полумиллиона, Министерство иностранных дел обошлось 5-ю миллионами на всё, Министерство Народного Просвещения - 22-мя млн., Министерство Путей Сообщения израсходовало 105 млн., это не считая 35 млн., выделенных на постройку Сибирской железной дороги, которая учитывалась отдельной строкой в Чрезвычайных расходах; ну, а больше всего ушло, естественно, на армию - 275 миллионов). Из этих цифр читатель сам может представить, что такое 2 миллиона в 1894 году, просто собранные людьми в пущенную по кругу шапку.
В результате, на собранные деньги были построены 225 церквей и 189 школ. Причём, государство тоже профинансировало это строительство, пусть и косвенным образом. На строительство церквей и школ, по предложению члена Комитета и управляющего министерством государственных имуществ Алексея Сергеевича Ермолова, бесплатно отпускался казённый лес.
Также Куломзин отмечал, что притоку пожертвований, безусловно, способствовало то, что Комитет всё время давал гласный отчёт о расходовании поступавших денег, а для сооружения каждого храма открывался местный строительный комитет, в который обязательно, помимо чиновников, входили местные прихожане и священник. Но! ... при этом на местах был организован постоянный надзор, осуществляемый, ни много ни мало, аж через чинов канцелярии Комитета министров, а руководил всем делом и оказывал ему деятельную помощь Государственный контроль. Можно представить, какое впечатление на местных чиновников и население оказывало участие таких высоких органов!
Кстати, подавляющее большинство из этих крупных пожертвований остались навеки безымянными – люди жертвовали деньги совершенно бескорыстно. Когда через некоторое время поток крупных пожертвований естественным образом схлынул, к делу попытались примазаться различные дельцы, предлагавшие привлечь пожертвования путем обещания жертвователям наград (в общем-то, распространённый обычай вознаграждать отличившихся в благотворительности орденами и знаками отличия), но Комитет все их отклонял. Некоторые награды, как исключение, были даны в тех случаях, когда сооружение церкви, на которую делалось пожертвование, совершалось при личном участии жертвователя.
Русские судьбы: последний министр империи – 2
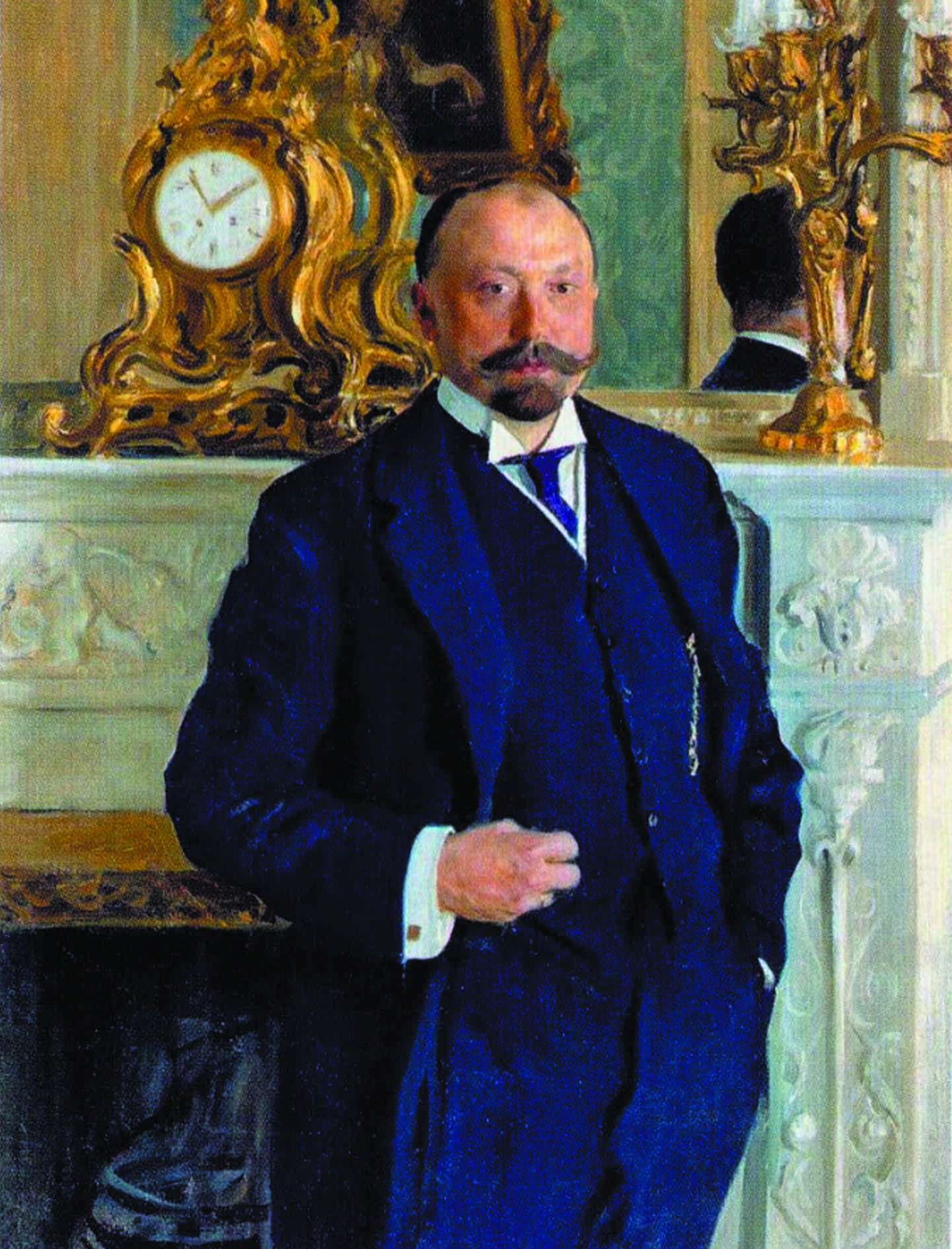
Став директором Волжско-Камского банка, Барк, по выражению одного осведомлённого современника, «попал на баснословно высокий оклад», взяв, наконец-то, реванш за бедные детство и юность. С этого времени он мог считать себе человеком богатым: известно, что, согласно составленному им в 1910 году завещанию, его мать и двое детей в случае смерти Петра Львовича получили бы по 100000 рублей, остальное неопределённое имущество отходило его жене. Однако, в 1911 году карьера Барка делает крутой поворот: он возвращается на государственную службу, став товарищем министра торговли и промышленности с одновременным производством в действительные тайные советники, что означало, что статским генералом Пётр Львович стал в 42 года. Известно, что возвращению Барка на госслужбу способствовал П. А. Столыпин, который в эти годы делал ставку на Всероссийский национальный союз (Партия националистов), а Волжско-Камский банк тогда считался «единственным национальным учреждением среди других банков в Санкт-Петербурге». Кроме того, Столыпину было известно, что Барк сыграл главную роль в спасении от банкротства газеты «Новое время» - органа партии националистов, а главное, накануне назначения, Барк приготовил Столыпину записку о национализации кредитов, что привело к их личному знакомству. Более того, знающие люди говорили, что Столыпин изначально «брал» Барка с дальним прицелом, готовя его на пост министра финансов, что и осуществилось, правда, уже после смерти Столыпина.
Как бы то ни было, переходя на госслужбу, Барк сильно терял в доходах. В 1914 году, выбирая кандидата на пост министра финансов, Николай II вызвал рекомендованного ему Барка, желая лично ознакомиться с его взглядами. Встреча состоялась в Царском Селе в Александровском дворце, бывшем резиденцией императора. Барк позже вспоминал: «Государь прибавил, что на него произвело впечатление моё решение покинуть Волжско-Камский банк и вернуться в ряды бюрократии. «Вы получали большое содержание в банке, вероятно тысяч шестьдесят». Государь был поражён, когда я ответил, что получал в банке более чем вдвое названной цифры. Удивление государя ещё более увеличилось, когда я на заданный вопрос упомянул, что содержание товарища министра составляет 13000 рублей. – «Что же побудило вас вернуться на государственную службу?» - Я ответил, что, хотя тринадцати лет потерял своего отца и мне с юных лет пришлось зарабатывать свой хлеб, я никогда не придавал особой ценности деньгам, предпочитая более широкую государственную деятельность, на пользу родины, служению частным интересам. Переход мой в Волжско-Камский банк был вызван стечением обстоятельств, и я смотрел на службу в этом банке как на временный этап в моей жизни».
Но, конечно, основная часть беседы была посвящена не жалованью Барка, да и вообще о жаловании разговор зашёл уже в конце беседы, что называется на десерт. А начинался разговор: «… Государь пояснил, что он вызвал меня, чтобы узнать мои взгляды по вопросам финансовой политики… Я вкратце изложил свои взгляды, упомянув, что, по моему мнению, настала пора изменить нашу финансовую систему. Нельзя строить благополучие казны на продаже водки, которая подрывает народное благосостояние, необходимо ввести возможно скорее подоходный налог и принять все меры для сокращения потребления водки. Относительно подоходного налога я пояснил, что мысль о его введении принадлежала предшественнику Коковцова министру финансов Шипову. Последний изготовил соответственный законопроект зимой 1906 г., для внесения его в Первую Государственную думу по её открытию. Этот законопроект был передан в одну из думских комиссий и за истекшие восемь лет не получил никакого движения. Между тем, подоходный налог является самым справедливым обложением и служит краеугольным камнем благоустроенной финансовой системы в более передовых странах.
Государь внимательно слушал мои объяснения, зачастую прерывая меня вопросами, относившимися до разных областей Финансового ведомства и государственного хозяйства. Затронуты были темы о вооружении, о железнодорожном строительстве, о торговле, о промышленности, о постройке портов, о торговом мореплавании. Мой доклад превратился в оживлённый диалог, и беседа продолжалась пятьдесят минут… Когда наша беседа кончилась, он немного помолчал и потом обратился ко мне со следующими словами: «Я решил предложить вам портфель министра финансов с тем, чтобы вы изменили нашу финансовую систему по моим указаниям и соответственно высказанным вами взглядам. Я знаю, что задача эта нелёгкая, но я убежден, что, благодаря вашему опыту и знаниям, вы с нею справитесь. Я уверен, что вы примете на себя это бремя на пользу России и для меня».
Спустя четыре дня, 30 января 1914 года, Николай II подписал указ о назначении П. Л. Барка управляющим Министерством финансов.
К сказанному Барком добавим, когда Барк пишет, что он «пояснил» государю, это не следует понимать буквально (а то кто-то может решить, что умный Барк открывал глаза ничего не знающему императору). Мемуаристы – они такие. На самом деле, история вопроса о введении подоходного налога была хорошо известна императору. Документы показывают, что о введении подоходного налога говорили в Государственном совете в марте 1905 года при обсуждении программы министра Коковцова об увеличении налогов в связи с Русско-японской войной. Ровно через год программа налоговых реформ, предусматривающая разработку и внесение в Государственную думу законопроекта о введении подоходного налога, была разработана под руководством упомянутого Шипова. Эта программа была утверждена лично Николаем II 14 марта 1906 г. Позже Коковцов как минимум дважды выносил законопроект о введении подоходного налога на рассмотрение Совета министров, и решения Совмина по этому вопросу утверждались лично Николаем II. И, наконец, Положение о подоходном налоге вносилось на рассмотрение II Государственной думы всего через три дня после её открытия, и точно также, сразу после открытия, в III Государственную думу в 1907 году. В последней соответствующий проект Финансовой комиссии был вынесен на общее заседание только в декабре 1910 года и остался нерассмотренным вплоть до роспуска III думы. Коковцов не успокоился, и 25 января 1913 года очередной законопроект о введении подоходного налога был передан в Финансовую комиссию уже IV Государственной думы. Естественно, все эти проекты утверждались лично Николаем II, и он был не просто осведомлён в перипетиях злосчастного закона, но и сам его продвигал руками своих министров финансов. Мы приводим эти подробности не для того, чтобы уличить в чем-то мемуариста, а как интересный штрих, характеризующий методу работы последнего русского Императора со своими министрами. Прячась за своей общеизвестной тактичностью, Николай II давал возможность подчинённым свободно раскрыться в своих воззрениях, узнавая таким образом человека и убедившись, что тот будет осознанно проводить в работе его взгляды, продвигал его в должности. Кстати, некоторые министры так навсегда и остались в уверенности, что они управляли слабым Николаем II и, будучи отставленными в нужное время со своих постов, в мемуарах удивлялись: ведь они всё так хорошо объясняли Государю… наверняка, Распутин вмешался.
Всё вышесказанное нисколько не умаляет заслуги Петра Львовича Барка и, по сути, к нему не относится. В своих воспоминаниях он-то был неизменно лоялен к памяти погибшего Императора.
Барк сменил другого выдающегося финансиста Коковцова, который много сделал для финансов империи в годы от Первой революции и Русско-Японской войны до января 1914 года. Барк оказался достойным преемником, хотя два этих выдающихся специалиста, уходящий и поднимающийся, явно ревновали и недолюбливали друг друга. Необходимо помнить, что это не была просто замена одного специалиста другим! Даже в подписанном Государем рескрипте вновь назначенному министру выражалась воля верховной власти сменить политику экономической неподвижности политикой экономического развития и прогресса. По сути, это был новый курс, и сам Барк, вступая в должность, заявил, по сути отмежёвываясь от политики предшественника: «Охрана бюджетного равновесия не должна препятствовать допущению хотя бы и крупных, но производительных затрат, так как эти затраты сторицей вернутся в государственную казну». Товарищ министра внутренних дел генерал В. Ф. Джунковский отметил это со своей стороны: «Он менее дрожал над кредитами, с него было легче их получить, и это не было сопряжено с излишними формальностями, которые преследовал Коковцов».
Те из наших читателей, кто интересуется финансами, возможно проведут некоторые параллели с сегодняшним днём, например, со спорами о процентной ставке кредита Центробанка, необходимого для развития нашей экономики. Что ж, в истории всё уже было. Только мы игнорируем её уроки.
Итак, при вступлении в должность в предпоследний день января 1914 года Петру Львовичу Барку Высочайше была предписана задача провести большую реформу всей, по сути, финансовой системы Империи, выражавшуюся прежде всего в двух пунктах:
-
Отказ от «пьяного бюджета».
-
Введением подоходного налога полностью изменить всю существовавшую до сего времени систему налогообложения страны.
Причём, где-то в тени за первым пунктом прятался ещё более глобальный вопрос о борьбе с пьянством в масштабах всей страны, что превращало Барка из просто министра финансов в политика общеимперского масштаба.
Всего через полгода после назначения Барка началась Мировая война. К двум вышеизложенным задачам на плечи Барка легла задача управления финансами империи в условиях невиданной по масштабам войны, а по большому счету - ведения этой самой войны, ибо любая война управляется и ведется деньгами. Без денег пушки не стреляют. При этом первые две задачи никто с Барка не снимал. Как он с ними справился, посмотрим в следующей части.

О пользе учения или конкурс на войну
В январе 1904 года началась Русско-Японская война. В Императорской Николаевской Военной академии вызвали тридцать добровольцев променять столичный Петербург на воюющую Маньчжурию. Вызвались все до единого. Руководство вышло из положения просто: на войну отправили 30 первых по успеваемости.
Жребий
Мы уже писали, какую огромную роль в жизни русского народа на протяжении столетий играл жребий. Нам, современным, и не понять. Жребием крестьяне общины каждые несколько лет делили между собой участки земли. Жребием же призывники отбирали тех, кому идти на службу, а кому оставаться дома. Процедура жеребьёвки со временем была закреплена законодательно и расписана до мельчайших деталей. Причем, жеребьёвка происходила открыто, на неё собирались все молодые люди, подлежащие призыву, их родители, попечители, выборные от общества и другие лица.
Любопытно, что урна для жеребьёвки, согласно законодательству, изготавливалась из прозрачного стекла, должна была иметь форму круга и стоять или висеть так, чтобы все могли её видеть. Так что наши современные изобретатели, которые несколько лет назад хвастались, что внедрили на избирательных участках прозрачные урны и круглосуточное видеонаблюдение, на самом деле ничего нового не изобрели, а всего лишь использовали то, что использовали наши предки со второй половины XIX века.
При вытягивании жребия каждый призывник должен был обнажить свою руку по локоть и предварительно показать «всем присутствующим распростёртую и так, чтобы каждый мог удостовериться, что нет никакого поползновения к подлогу».
Летом 1904 года в действующую армию в Маньчжурию прибыла большая группа вышеупомянутых выпускников Военной академии. Вначале они осели при штабе Наместника Дальнего Востока в Мукдене, но вскоре в связи с реорганизацией армии возникла необходимость раскидать их по разным штабам. А штабы на Театре военных действий были разные, можно было попасть в действующую армию, в самую гущу событий, а можно было загреметь во Владивосток, в невоюющий медвежий угол той войны.
Как решить кому куда?
Решили по-русски.
Блестящие выпускники Академии, подобно крестьянам любой захудалой деревеньки, точно также тянули жребий.
Правда, при желании можно было поменяться.
Так, один из этих генштабистов штабс-капитан Геруа пришёл в ужас, увидев на злосчастной бумажке приговор «Владивосток». Однако, на его счастье, нашёлся желающий, которому выпал воюющий «Мукден», поменяться жребием.
Любопытно, что отец штабс-капитана старый генерал Геруа поступок сына не одобрил и отчитал его в первом же письме. Старое солдатское поверье гласило: «На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». И то, что указал жребий, по мнению генерала, надо было принять, а не дёргать судьбу за хвост.
Что там отбор людей! На войне наши предки вполне могли выбрать роты, которым первым идти в бой, по жребию. И никого это не удивляло: ни начальство, ни тех, кому идти в огонь. Такие вот понятия о справедливости были когда-то в нашей стране. Жребий воспринимался как воля Божья, а ей и подчиниться не зазорно.
