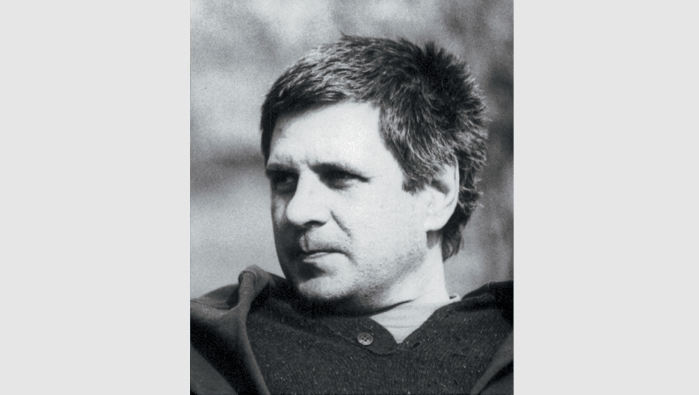- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 70 Исторические мозаики
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 70 Исторические мозаики
Вадим Приголовкин 12.02.2021
Вадим Приголовкин 12.02.2021
УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 70
Исторические мозаики
Секрет русской штыковой
Мощь русской штыковой атаки никогда и никем не оспаривалась. Особенно в те времена, когда пулемёт ещё не появился на полях сражений и штык решал исход большинства войн и сражений, а значит, судьбу царств и народов. Соответственно, отработкой штыковой атаки завершались все учения и манёвры русской армии.
Правда, похоже один только Суворов на этих учениях практиковал свой знаменитый метод обучения - «сквозная атака», когда идущие друг на друга войска, изображавшие противников, не останавливаясь, не сдерживая шаг, смыкали ряды и проходили сквозь строй друг друга. Но Суворов - гений, один такой, а вот остальные простые смертные начальники и генералы вынуждены были придерживаться правил «техники безопасности»: на двухсторонних манёврах строго требовалось соблюдать правило своевременной остановки, чтобы части, идущие в атаку, не сходились грудь с грудью, а останавливались на 50 шагов друг от друга и брали оружие к ноге.
Так должно было случиться и 5-го августа 1850 года в Царскосельском лагере во время традиционных ежегодных манёвров войск гвардии. Это был последний день военных игр, когда маневрирующие войска сходились в нескольких верстах от лагеря и изображали генеральное сражение, кульминацией которого и должна была служить решительная штыковая атака.
Преображенский полк, краса и гордость русской гвардии, должен был произвести эффектную сомкнутую атаку. Полковой командир генерал Катенин в этот день отчего-то исполнял обязанности бригадного командира, и на его место перед полком заступил старый полковник Мусин-Пушкин. Когда колонны пошли вперёд, он ехал при втором батальоне; все слышали, как он скомандовал: «Пятый и четвёртый взводы, на-руку!», что означало начало штурма. По этой команде застрельщики, как и требовал устав, очистили место перед колонной и пошли по флангам. Тут Пушкин крикнул «ура», и этот крик командира обычно служил сигналом, по которому все пускались бегом на противника, причём строй обычно терялся, все бежали толпой и кричали, пока барабаны не ударяли отбой. И всё это было красиво и безопасно на односторонних манёврах, против мнимого неприятеля, но против живых людей следовало точно рассчитать, когда начинать атаку и, главное, когда её остановить. Пушкин это не сделал. Преображенцы, вошедшие в раж, оказались вдруг перед строем батальона Финляндского полка, стоявшего на месте. Что тут кричали офицеры, пытавшиеся унять солдат, уже никто не слушал: разгорячённые солдаты не на шутку сцепились с противником; послышался зловещий стук штыковых клинков.

Всё-таки есть упоение в бою, даже если этот бой учебный. Особенно в такие вот моменты. Каждый, кто служил, поймёт. Помнится, в славном Ленинградском военно-политическом училище, когда нас, курсантиков 2-го курса, первый раз посадили в кабины небезызвестного сейчас и страшно секретного тогда зенитного-ракетного комплекса С-300, и преподаватель-полковник включил тренажёр, имитирующий налёт НАТОвской авиации, как сразу мы забыли, что это всё имитация. Азарт виртуального боя вытеснил всё… как дружно мы кричали «ура», когда сбили первого! И кричали, не сговариваясь, на каком-то генном, идущем из глубин нашего безотчётного подсознания чувстве. Кричали не только в одной нашей кабине – по громкой связи было слышно, что точно так же орёт весь наш взвод, рассеянный по многочисленным кабинам, образующим единый боевой комплекс системы С-300. Нет сомнения, с таким же азартным криком ходили в штыки наши предки под Полтавой, Измаилом, да и раньше, испокон веков, и на Калке, и на Чудском озере, да и много ранее, во всех бесчисленных боях, битвах и несчётных мелких, не оставивших и следа в истории, но от того не менее важных и судьбоносных боях, битвах и стычках, составлявших историю нашего народа на протяжении всей его истории.
И кто разберёт? То ли этот в генах сидящий опыт веков заставлял николаевских солдат начинать на учениях колотить своих же, то ли наоборот, это вот свойство русского человека, который и на учениях-то впадает в боевой азарт, а уж про войну и говорить нечего – что и помогает побеждать…

Но вернёмся в август 1850 года.
В суматоху разгорающегося побоища ворвался вдруг собственной персоной кричащий государь-император Николай I. Он поспешно скакал во главе огромной свиты, в которой было много иностранцев, всегда любивших посмотреть на знаменитое действо – манёвры русской гвардии. В этот раз им было что смотреть. Лошадь государя отшатнулась было от шумящей толпы, но он дал ей шпоры и вогнал, буквально втиснул в середину схватки.
Как писал очевидец: «Никогда не забуду лица государя в эти минуты. Оно так исказилось гневом, что стало просто неузнаваемым. Он пожелтел, глаза налились кровью и сверкали, нижняя губа и подбородок выдвинулись вперёд и судорожно дрожали».
- Что вы делаете, - кричал император, с трудом посылая вперед лошадь и беспрестанно понукая её шпорами, - своих братьев резать хотите что ли! ... Назад, олухи, угорелые кошки[1]!..
Солдаты передних рядов подались назад, но напором остальной, толкавшейся за ними массы опять хлынули под ноги царского коня. Государь воспринял это за нежелание исполнить приказ и совершенно вышел из себя.
- Назад! ... говорю я вам, - даже голос его в этот момент изменился, хотя был громок и твёрд. – Первому, кто посмеет выскочить вперёд, - расколю голову.
Он выхватил саблю. Толпа опять отхлынула назад, но, к несчастию, один ефрейтор из 4-го взвода оказался стиснут своими товарищами и оказался выброшен или выдавлен ими из рядов. Император с размаху резанул его по каске саблей; солдатик поспешил спрятаться назад в ряды; в следующие мгновения офицеры овладели, наконец, расстроенными батальонами, начали разводить людей и строить порядок. Государь отъехал на несколько шагов, успокоившись, медленно вложил саблю в ножны, потом вдруг развернул лошадь и быстро вернулся к батальону. Уже совершенно другим, своим обычным спокойным голосом обратился к людям:
- Кого из преображенцев я ударил, - выйди вперёд!
Все хором зашептали, переглядываясь: «выйди вперёд, кого государь ударил!», только Катенин, очень испуганный, хотя и пытался показаться спокойным, твердил глухим басом:
- Виновный перед государем, выходи вперёд!... главное дело, с покорностью, с полной покорностью!
Солдат сам вышел вперёд.
- Хорош!.. Хорош!.. - проговорил император. Потом вгляделся и, видя кроткое и добродушное лицо солдатика, спросил тихо и с участием:
- Что, я тебя сильно ушиб?
- Никак нет, ваше величество, - отвечал ефрейтор.
Государь не поверил, подъехал ближе:
- Точно ли правду говоришь?
- Точно так, ваше величество.
Государь взял его каску, внимательно осмотрел. Всё решил шишак каски! Шишак этот оканчивался четырьмя бронзовыми лапками, лежащими крестообразно на кожаном колпаке каски. Царская сабля ударила по передней лапке, надрубила, но не до конца: лапка просто выгнулась и вдавилась в колпак, так что удар, встреченный бронзой и кожей, не дошёл до головы. Государь убедился, что солдат говорил правду, он не пострадал. Потом офицеры доложили, что солдатик этот был во всём батальоне самый смирный, трезвый и отличнейший солдат.
В общем, отдуваться за всех пришлось батальонному командиру Шульгину. Хотя все знали, что виноват был Катенин, именно он первый крикнул «ура», он не протрубил вовремя отбой, потеряв управление полком, да и вообще, он в этот момент командовал полком и всей атакой, а не командир батальона. Но Катенин благоволил старику Пушкину, и под арест отправился Шульгин. Правда нашёлся один человек, генерал-адъютант Кавелин, известный своей прямотой и честностью и тем, что не боялся говорить правду самому государю. Отделившись от свиты, Кавелин подъехал к Пушкину и перед всем фронтом, во всеуслышание сказал запальчиво:
- Будь я на месте государя, я вас первым, полковник, посадил на хлеб и воду, потому что вы один всему причиной!

Этим происшествием тотчас и кончились манёвры.
Государь был сильно разгневан этим случившимся беспорядком и своеобразно наказал весь 2-й батальон Преображенского полка. Он велел всему батальону отомкнуть штыки, взять ружья прикладами вверх и отмаршировать домой тихим шагом! Последнее повеление, правда, выполнить было невозможно, так как до лагеря было несколько вёрст, но вот ружья пришлось нести всю дорогу прикладами вверх. И в этом странном положении батальон прошёл вдоль всего лагеря, под градом насмешек и острот всех встреченных полков и отрядов.
Ситуация усугублялась тем, что следующий день, 6-е августа, был днём полкового праздника. И начался он самым мрачным образом – государь в лагерь не приехал, и торжественный парад и обедня прошли без него. И погода была пасмурная и дождливая. Офицеры повесили головы. Но в обед от государя приехал генерал-адъютант, передал императорские поздравления с праздником и пожелание «чтобы все были веселы». С этой минуты веселье пошло обычным порядком, как и полагалось в русской императорской армии в такой день. А вечером была обязательная «джонка», окончательно затопившая горе.

А через неделю, 22-го числа, праздновали 150-летний юбилей полка. По этому случаю Преображенцы и Семёновцы получили новые знамена, по повелению государя изготовленные из специально выписанной из Китая шелковой материи. Вручая полку это знамя, Николай I произнёс ставшие знаменитыми слова:
- Поздравляю вас с новыми знамёнами! Слушать меня и не перебивать[2]. Со времени знаменитого вашего основателя прошло 150 лет. Всё это время Преображенский полк служил постоянно верно, постоянно усердно, постоянно отлично. Все государи были довольны вашею службою. Я вас благодарю за эту службу и уверен, что Преображенский полк, как всегда был, так и всегда будет железною стеною русского царства!
Эти слова про Железную стену стали крылатыми и не выходили из употребления до революции.
А 14 декабря исполнялось 25-летие со дня зачисления Николая Павловича шефом полка. Такой вот богатый на круглые юбилеи выдался год. В этот день государю представлялись все офицеры и генералы, в это время в полку состоявшие, и все служившие в нем в течение этих 25-ти лет. Император сказал:
- А вас, преображенцы, благодарю в особенности. Вы знаете, каким особым странным случаем мы еще более связаны вместе[3], а потому составляем общую семью, и моя семья вся принадлежит вам, как и вы все принадлежите мне.
Мшаны: последний бой русской гвардии
Императора уже не было. Но ещё оставались традиции, и русская гвардия, пусть уже не императорская, выполняла последнюю волю последнего русского царя – «… отстоять Родину от злого врага…. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы… Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Отечеству, его предатель»[4].
Кстати, зачастую говоря о февральском перевороте в Петрограде, утверждают, что революцию поддержала гвардия, называют имена прославленных гвардейских полков - Литовский, Семёновский. Это не совсем так. Все эти прославленные полки с начала войны всё время находились на фронте. А в столице были сформированы запасные части гвардии, стараниями некоторых начальников раздутые до размеров настоящей воюющей гвардии. В них то и началась буза. Вечером 22 марта, менее чем через три недели от Отречения в Преображенский полк на фронт прибыла делегация запасного полка его же имени. На фронте их встретили так: по приказанию командира полка командиру 5-й роты капитану Зубову было приказано всю делегацию во главе с офицерами арестовать. Капитан собрал всю делегацию, прочёл им приказ командира полка, что они более не преображенцы, и под конвоем всю делегацию отправили в распоряжение командующего Особой армией генерала Гурко.
Напомним, что 2 марта Преображенский полк был назначен в отряд Особого назначения генерала Иванова. Когда выведенному с фронта передовому батальону преображенцев, выстроенному в каре, объявили, что на полк возложена почётная задача идти на Петроград и его усмирить, люди ответили дружным «ура» и «рады стараться»! Тогда батальону было приказано стать вольно, а фельдфебелям выяснить, кто болен. Больных, то есть отказников, не оказалось! Более того, фельдфебели доложили, что люди хотели бы нести на себе лишние патроны и ручные гранаты. До ближайшей станции было 25 верст, пошли походным порядком. Авангардный батальон, прибыв к месту посадки, обнаружил, что эшелоны не поданы. Преображенцы своими силами стали собирать на путях вагоны и платформы, а ближе к вечеру захватили шедший через станцию маневренный паровоз; в него посадили офицера с двумя солдатами. Погрузились. Утром пришло распоряжение, что экспедиция отменяется.
Измена, кругом измена.
Охвативший с марта русскую, теперь демократическую армию, процесс разложения преображенцев счастливо миновал. В мае в полку в ротных комитетах еще преобладали старые, заслуженные солдаты, и на призывы засылаемых делегатов участвовать ли в наступлении, они ответили, что не правомочны «обсуждать стратегический вопрос». В июне в расположение полка явились толпы чужих разложившихся частей, устроили митинг. Когда в толпу вошел командир полка Кутепов, раздались крики: «На штыки Кутепова, бей их всех». «Преображенцы, ко мне, - крикнул в ответ Кутепов. – Вы ли выдадите своего командира и своих офицеров!» Старые боевые солдаты окружили командира, громко говоря: «своих не выдадим!» и «гони их с бивуака!»

Этот единственный инцидент как бы оздоровил полк; в Петрограде, в Совете Солдатских депутатов, с тревогой сообщали, что «у преображенцев всё по-старому, только Боже царя не поют», и что у солдат хорошие отношения с офицерами, и что агитаторов в полку не жалуют. Революционеры тоже знали своё дело – решили разбавить полк революционным элементом: прибывшие вскоре в полк маршевые роты целиком состояли из фабричных белобилетников, многие были «партийными», и среди них был известный в то время большевик Владимир Чудновский, прибывший в Россию после революции вместе с Лениным. Показательно, что уже на третий день после прибытия в полк Чудновский был избран председателем полкового комитета, а ещё через два дня уже был председателем корпусного комитета. Вёл же его кто-то!
Начавшееся было довольно удачно летнее наступление Керенского, первое наступление республиканской России и свободного народа, быстро захлебнулось. Русская армия разваливалась на глазах. Фронт держался на тоненькой цепочке частей, оставшихся верными долгу. Немцы ломили силами срочно переброшенных с запада дивизий. Спасая положение, у безвестной галицийской деревни Мшаны дала свой последний бой Петровская бригада, полки Преображенский и Семеновский. Рядом хорошо дрались Чешская бригада и Уральские казаки, а на дивизии 3, 176 и 55-ю пехотные рассчитывать было нельзя – они митинговали, а при приближении немцев свернулись и бежали в тыл. Им гвардейцы не верили и рассчитывали только на себя.
А продержаться надо было не менее суток, для вывоза в тыл тяжёлой артиллерии и уничтожения огромных складов у м. Езерна и г. Тернополя.
Бой для введённых из резерва Преображенцев вышел встречным. И неожиданным. На окраине деревни офицеры, глядя в бинокли, еще успели подивиться, в каком удивительном порядке двигаются на деревню цепи 176-й дивизии, но вскоре поняли: идут немцы. Грянул одиночный выстрел, потом другой… Солдаты 3-го батальона выбегали из домов, строились на ходу. Командир батальона Квашин-Самарин первый сообщил находящему глубже в деревне 2-му батальону: «В деревню входят немцы… принимаю их на штыки… отступать не буду… прошу поддержать…».
2-й батальон капитана Швецова не стал разворачиваться в цепь: встал на главной улице в линию ротных колонн, как во времена Крыма и Бородина; впереди стояли 7 и 8 роты, за ними - 5 и 6-я; Швецов доложил командиру полка, что он ждет, когда немцы подойдут на 200 шагов, и тогда батальон их атакует.
«Прекрасно», - был ответ Кутепова.
3-й батальон впереди уже дрался вовсю.
Наблюдатели доложили Швецову, что немецкие цепи с 400 шагов поднялись и двигаются на деревню. Капитан Зубов попросил Швецова разрешить скомандовать «на молитву». Получив разрешение, скомандовал: «На молитву, фуражки долой». Батальон снял фуражки, набожно перекрестился… Ещё минута. Подбежал батальонный горнист, спросил, когда играть атаку? Швецов: «Как только 7 и 8 роты перепрыгнут через плетни и заборы – играть «слушайте все», потом позывные 2-го батальона, а затем играть «атаку»… «бегом»…
Немцы всё ближе; было видно, косят головами в сторону 3-го батальона, обходя его, не зная, что идут прямо на 2-й. Швецов снял фуражку, несколько раз перекрестился: «Ну, с Богом, - Зубову, - командуй!»
Капитан Зубов закричал, называя имена ротных: «Висковский 2-й, Розеншильд 2-й с Богом, равнение по 3-му батальону, направление на столб у кладбища (потом выяснили, что это был крест)».
Послышались команды, топот тысячи ног. 7 и 8 роты бросились прямо через заборы и плетни, через проулки. За ними пошли 5 и 6-я.
Запел горн: «Слушайте все, второй батальон, второй батальон, атака, атака… бегом… бегом».
Батальон бежал без остановки. 7-я рота не выдержала и закричала «ура». Тяжелая германская артиллерия открыла огонь, но под её огнем гвардейцы только прибавили шагу.
Первая цепь противника была смята сразу, взяты пленные. Вторая цепь залегла и открыла огонь, через минуту сбили и эту цепь, часть была взята в плен, уцелевшие, бросив пулеметы, убегали назад.
Русские удивлены: среди пленных попадаются германские гренадёры с вензелями русского императора Александра II.
Впереди - третья немецкая линия, к ней подходят резервы. Пошла работа штыками, кололи не отбегающих немцев. Без винтовок, в направлении 5 и 6 рот бегут пленные.
Всего на порыве прошли 1500 шагов, по постепенно поднимающейся местности, было жарко, люди в амуниции тяжело дышали, потому Швецов приказал остановиться, отдыхать, расстегнуть воротники гимнастерок и закатать рукава.
Раненые отползали на деревню Мшаны, и одновременно с ними ползли раненые немецкие гренадёры, которым русские унтер-офицеры руками показывали направление.
В это время мимо Кутепова уходил в тыл 9 пехотный Ингерманландский полк 3-й дивизии. Кутепов был не в силах их остановить. За этим полком исчез и штаб дивизии. Вслед уходящим Кутепов говорил: «Прекрасно, товарищи… прекрасно, товарищи».
Но не все драпали: командиры пулемётных команд всех 4 полков 3-й дивизии и два командира артбригады доложили Кутепову, что считают позором уходить в такую минуту с поля боя. Все они были приняты под командование Кутепова и исполнили свой долг до конца боя. Правда, батарейцы доложили, что могут использовать только те снаряды, что имеются в передках и снарядных ящиках, так как парки ушли, не желая воевать.
2 и 3 батальоны продолжали гнать немцев, 8-я рота ворвалась в дер. Жуковец, выбивая немцев гранатами из домов, но фланги полка висели в воздухе, и противник их обтекал.
Правда, подошли резервы из штаба фронта, всё, что было: 6 бронемашин, одна из которых была пушечная, а в воздухе появился один аэроплан.
В боевую линию был двинут 1 батальон, вышедший в поле на стену заградительного огня немецкой артиллерии; вместо него в резерв полка подошел 2-й батальон Семёновского полка. К этому времени Преображенский полк дрался на фронте аж 6 верст. Становилось всё тяжелей. К немцам постоянно подходили подкрепления, стало чувствоваться появление все новых батарей, снаряды рвались всё чаще. Укрываясь от огня артиллерии, гвардия опять пошла вперед; вновь берутся пленные, которым наши унтер-офицеры указывают направление, куда следует отбегать.
А было только 9 часов 20 минут. Впереди был ещё весь день.
Перед фронтом преображенцев к этому моменту развернулось не менее 5 германских полков.
Проходит ещё час. Обход флангов усугубляется. Полуроту 5 роты отводят уступом назад, прикрывать открытый фланг. Люди смотрят вперед и назад, по цепи передают: «Глубже заройся, пятая рота с фланга выбывает…»
К полудню в штабе 11-ой армии осознают, что Петровская бригада (два полка), так неожиданно ввязавшаяся в бой вместо бежавших с фронта 3-х дивизий (12 полков), выполнила часть задачи всего корпуса, задержав немцев на подступах к Тернополю. В армии решили отвести гвардию немного восточнее и на новых позициях удерживать немцев вторую половину дня. Но как отойти, днём, при прекрасной погоде, если цепи преображенцев лежали в 20 шагах от немцев: не будут ль они смяты при отходе? А в деревне Мшаны скопилось много раненых.
Успех манёвра в этих условиях зависел исключительно от выдержки и выучки гвардейцев.
Кутепов решил отходить перекатами, начиная с левого фланга. Всех свободных от боевой работы людей он приказал направить в Мшаны, для выноса раненых.
В каждый батальон на передовую линию было отправлено по два посыльных с приказом и инструкцией, как отходить. До 2-го батальона ни один не дошел. В батальоне видели, как 3 батальон стал отбегать. Немецкие цепи сразу поднялись следом, стреляя следом с колена, стоя, навскидку. 2 батальон развернул пулеметы, охладил пыл немцев, давая тем отойти 3 батальону; не получив никакого приказа, 2 батальон лежал[5]… унтера в цепи кричат: «Смотри вперёд, как поднимется, открывай огонь». Немцы, видимо, ждали, что сейчас начнёт отбегать и 2-й батальон.
(продолжение следует).
[1] Любопытно. Вот, оказывается, как ругались наши предки до повсеместного распространения мата.
[2] То есть не кричать «рады стараться!» и «ура!».
[3] День 14 декабря 1825 года, восстание декабристов.
[4] Прощальный приказ Императора после Отречения.
[5] Как им воевалось в те времена, без радиосвязи?