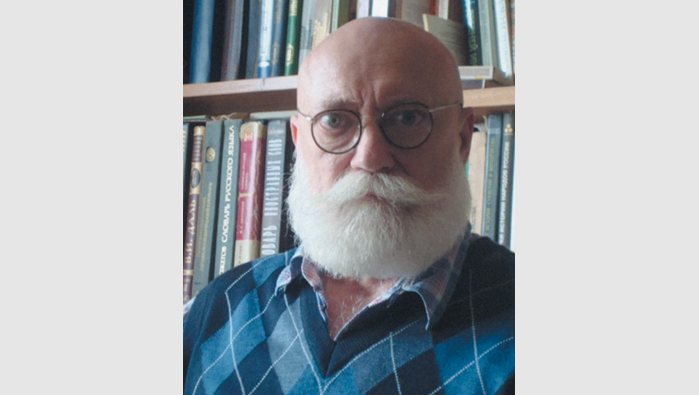Тула
Михаил Гусаков 17.05.2025
Михаил Гусаков 17.05.2025
Тула
Хоть родился и жил я на 3-й Мещанской, что на севере Москвы, но Тула дважды вошла в мою жизнь и оставила большой след в моей судьбе. К Туле у меня родственное чувство: люблю этот «почти подмосковный» город, хоть до него и 200 км по железной дороге.
Мне всегда казалось, что Тула рядом. Однако Лев Николаевич Толстой со своим семейством ехал из Москвы до Ясной Поляны 3-4 дня. Я доезжал до Тулы за 4,5 часа на «зелёной электричке», которая называлась в 1970-е годы «большая зелёная колбаса». В пору дефицита 1970-80-х годов в Москву со всей страны везли продукты и других нужные товары. Вот и садилась вся свободная Тула на электричку в 4 часа 20 минут утра и ехала в свой выходной в столицу, чтобы купить что-нибудь из продуктов или вещей.
До войны Тула была деревянным городом. Туляки говорили, что город их похож на старую, дореволюционную Москву. Застроена Тула была одно и двухэтажными деревянными домами с подворьями. Резные наличники, печные трубы с металлическими коронами, торчащие из крыш, внутри дворов вместительные ангары, мастерские и огромное количество предметов и изделий. Тула - мастеровой город. Я часто живал рядом с улицей Братьев Жабровых, которая когда-то называлась Георгиевской, в честь Владимирской (Георгиевской) церкви на Ржавце. Гуляя по ней, представлял, что так мог выглядеть до революции и Новгород, или Москва, так могли выглядеть города русского Севера. Это была настоящая Русь, подлинная, хорошо и ладно сделанная.
А началось всё ещё в детстве. Мой дядька Николай Михайлович Барвинский со своей женой (увы, имени её я не помню) часто мотались в Москву по работе. Оба они были сосланы в Тулу по делу, которое я не знал. Помню только по рассказам дяди Комы, так звали моего дядьку, что они были «врагами народа». Я не совсем понимал это определение, немцы были враги нашего народа, ну чтобы мой дядька и тетка? Полная чушь… Им тюремное заключение заменили ссылкой в Тулу, которая в то время считалась городом далёким и запретным, почему - я долго не мог себе объяснить, да и спрашивать мне было не у кого. Родители молчали. Мне было строго сказано, «о них – молчи», я и молчал. Знал, что дядька и тетка были «искусствоведы». Что это такое, я совершенно не понимал, для простоты мне было сказано, что это: картины, живопись, графика, гравюры, плакаты и т.д. Работали они в Тульском художественном музее (ныне ТМИИ). Дядька был консультантом, а потом и директором музея. В Москву ездили по делам и общались с товарищами. До войны они жили в Ленинграде. Там их арестовали, а точнее арестовали дядькину жену, она была дочь высокого флотского начальника, которого объявили врагом народа и, естественно, всё его семейство репрессировали. Дядька от жены не отказался, и тогда и его арестовали тоже.
В Тулу он поехал вслед за своей женой, высланной на поселение. В конце войны Барвинские участвовали в поисках Дрезденской картинной галереи, а в остальное время работали в Тульском художественном музее. Там мой дядька, проявив чудеса профессионализма, собрал по разным местам Тульской области такие шедевры русской живописи XIX-XX веков, что ему и его жене впору было бы поставить памятник…
В Туле открылось и новое для меня и моего шефа, известного археолога Бобринского, дело – тульское гончарство. Работали туляки не на ножных гончарных кругах, а на ручных, тяжелого типа. Рядом с Тулой было известное село Филимоново, где было старинное производство белоглиняной посуды и глиняных игрушек. Своей глины там было завались, не надо ни гжельской, ни опошнянской. Филимоновская глина – настоящее природное чудо.
В экспедицию, которая изучала гончарный промысел, я попадал и в 1968, и в 1975 году. В этот год начинали работы с Тулы. Там жили братья Власовы и ещё один гончар, Малыгин Петр Александрович, глухонемой. Хороший гончар, он жил рядом с Власовыми. В те давние дни в Туле было тихо, только время от времени что-то бухало, словно бомба упала. И воцарялась долгая тишина. Это, как говорили гончары, очередную пушечку проверяли, как она работает. (Много в Туле рабочих, все работают в несколько смен на военных оружейных заводах, куют оружие страны. Пушки, пулемёты, ружья, револьверы, охотничьи ружья, пистолеты и ещё Бог знает какое вооружение они там делали).
Надо заметить, что работа гончаров на ручных кругах очень отличается от приемов гончаров, использующих ножные круги! На ножном круге выходит одна керамика, и возможности её изготовления практически бесконечны. А у тех, кто за ручным – тяжёлым кругом – другая, ведь результат зависит от ходкости круга, двигающегося от руки. Это не равно ножному кругу, и необходимо понимать, что это разные навыки работы. Хотя гончары на ручном круге могут сделать вытягиванием из одного комка глины вполне приличный горшок по росту и величине, но это не сравнимо с ножным кругом! Быстро уходящая инерция движения круга, постоянно заставляет подкручивать круг, а это сильно изматывает гончара. Подкручивание силы забирает, гончар сильно устаёт, от этого страдает производительность. Надо отметить, что мы считали производительность на ножных и ручных кругах: на ножном – 100 и более изделий в день, тогда как на ручном – максимум 50. И то это очень много, да и формы объемом и ростом заметно меньше, чем у гончаров на ножных кругах.
Нравились мне туляки и своим «враньём». Я обожал слушать их трёп во время работы, особенно, когда они делали свои «кандюшки» – горшочки объёмом в литр, не больше. В этих горшках отлично выходило мясо с картошкой, и не было блюда на тульском столе вкуснее этого, особенно с укропом-петрушкой и зелёным луком, и водкой вдогонку за первым горячим куском. Всё было так, как надо: горячее, вкусное и сытное… После того, как ты этот «котёлик» опрокинешь в свой желудок, который не привык к таким радостям жизни, откидываешься на стуле, переводишь дух… Ух! Прожевав остатки мяса, вспоминаешь: мне бы сейчас пивка. Тут возникает веселая физиономия хозяина Толи Власова:
– Ну что, хорошо бы водочкой смазать это дело?
– Это как смазать? Это что за новость такая?
– А новостей у нас нету, у нас новость одна – пить будешь!
– Ох, буду, конечно, – и сознание робеет. Всё, как трава к ночи, валится вниз, и вдруг в мозгу свет: я же хотел сегодня работать, говорил себе – пить больше не буду!
– Нет, будешь – говорили тульские гончары, их сегодня здесь за столом четыре человека, - да ты сам вчера выдал нам деньги, и мы в твою честь устраиваем этот праздник труда!
– Мы как каторжные работали три дни, и на четвёртый имеем полное право погулять!!! Хоть ты тресни и штаны твои вдрызг… А выдь на двор, угостись водочкой, крякни, как гусь перед смертью, и за стол… На съедение соседям, вопросов у них до хрена, до утра не разгрестись…
В Туле я даже женился: мы случайно встретились, и за разговором пошли в ЗАГС и, не ожидая двух положенных месяцев, проверки наших чувств, расписались… Она была художница-график, офортистка. Как-то раз у неё на работе, в худфонде, во время застолья услышал я историю про денежную реформу 1961 года. Один парень среднего возраста стал рассказывать, как он и его друзья работали на ВСХВ (тогда она совсем недавно стала ВДНХ) и, в частности, оформляли что-то (что – уже и не помню), работы было много, но и платили дофига. В Тулу наш рассказчик вернулся с чемоданом средней величины, полностью заполненным деньгами. Напомню, шёл 1961 год. На радостях он загулял и пил в смертную… Прошло несколько дней, парень проснулся, пригубил рассолу, чуточку протрезвел. Вошла мать.
– Чего лежишь? Люди, говорят, деньги меняют?
– Как меняют?
– Да так, пошёл бы узнал бы! Всё пьёшь, пьёшь… Иди, дурень! – оделся, пошёл, достал чемодан и вышел. Пришёл в сберкассу. А там говорят, что обмен закончен! Всё – эти деньги только на обои могут пойти, оклеить комнату. Ушёл и опять напился, но уже в долг…
Настоящая Русь не в Москве, тем более не в Питере. Страна осталась здесь, в старых городах, подходящих порой к барьеру забвения… Не так много осталось помнящих своё прошлое и держащихся за него, как за спасательный круг… Плывём не знаем куда… Эх, Русь, куда ты скачешь? Нет ответа…
Из всех историй наших экспедиций помню одну про тульского мастера, современного Левшу. Рассказал нам её наш фотограф Олег, который был фотокорреспондентом в Тульской газете «Молодой комсомолец» (или что-то в этом духе). Однажды в редакции газеты его попросили прийти в милицию, там было «нашумевшее на весь город» какое-то дело. Что надо будет снимать – неизвестно. Он шёл с ощущением, что ему придётся снимать труп, но всё оказалось проще. Милиционеры подвели его к столу, на котором стояла машинка, напоминающая обыкновенную печатную машинку дореволюционных времён или нечто подобное из прошлого. В тот момент Олег и не понял, что снимал, сделал несколько кадров и собрался домой. Его остановили и попросили сделать ещё несколько снимков после того, как частично вскрыли корпус машинки. Он сфотографировал внутренности… И тут начальник его спросил:
– Как ты думаешь, это что такое?
– Чёрт его знает, похоже на печатную машинку, но я не понимаю её!
– Ты прав, это печатная машинка, только она печатает ДЕНЬГИ!
– Чего? Деньги? А это как?
Милиционер взял кусок бумаги, подрезал его и запустил в тело машинки, что-то повернул - то ли ручку, то ли кнопку, – и через минуту, погудев, машина выпустила бумажку, на которой была отпечатана трёхрублевая купюра времён Никиты Сергеевича Хрущёва. Трешник, зелёный трёшник, лежал в руках Олега!
Олег опешил, удивился и спросил:
– А как Вы вышли на это дело?
– Да сынок выдал папку! – сказал мент. - Пришёл в школу и стал всех друзей на перемене угощать пирожками с повидлом. Ребята не выдержали и спросили, откуда деньги.
– Да папка новые напечатал! – проболтался он. Ребята на него и настучали…

Печатный станок фальшивомонетчика. Из собрания Центрального музея МВД России. Источник https://avatars.mds.yandex.net/
Тулу нельзя забыть. Вот, к примеру, едете на машине по улице Дмитрия Ульянова и, поднимаясь на горку, с правой руки видите дом кирпичный, и по средине фасада дверь, а над дверью на зелёной краске написано аршинными буквами: ВОДКА. Вот так. Нигде, где я проезжал на машине, и по многим городам - нигде не было такой откровенной надписи. Олег Толстой, пра-пра-правнук Льва Николаевича рассказывал, что каждый раз, проезжая на машине в Ясную поляну, у этого магазина останавливался и брал несколько бутылок.
Мы с женой пошли как-то в ресторан, отметить сдачу настенной росписи в парикмахерской. Сидим, разговариваем, что-то тихо выпиваем, и тут подходят два мужика и спрашивают:
– У вас свободны два места? – замечу, в то время в ресторан попасть было нельзя, ну, просто трудно, всегда всё было занято. А тут два места свободны. Мы сжалились, - садитесь! Они расцвели как маки, сели, тут же подскочил официант: «Чего изволите? – Водки, – выпалили они залпом! – Немедленно водки, и селёдки в закуску! – Ща будет!» Ушёл… Один спрашивает:
– Извините, а у вас что, свидание? Вы как-то тихо сидите, не едите, только пьёте, да и винцо у Вас кислое!
– Да, кислое, мы с работы и хотим тихо посидеть…
– Простите, а вы чем занимаетесь? Простите за любопытство.
– Я художник, - говорит Наташа, - а муж археолог! Историю копает!
– А, правда, говорят, что вы могилы тоже копаете?
– Да, копаем, и могильники, и курганы, - ответил я, ожидая второй вопрос.
– И покойников достаёте?
– Да, исследуем и фотографируем, и потом сдаём в музей!
– И много вы получаете?
– Зарплату, – тут мужики захохотали… Мы же как-то задумались, что делать дальше?
– Да вали к нам, мы работаем на городском кладбище, нам такие мужики во как нужны, другие-то неделю максимум просидят и убегают, не выдерживают. А ты долго в археологии работаешь?
– Да лет пять будет точно!
– Давай выпьем, иди к нам – денег дадим столько, что замучаешься считать, у нас поток…
Мы оставили их, ушли. Вот уже мне 78 лет, а я всё в археологии сижу…
16.10.2024